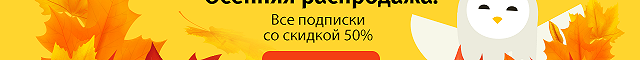
Повинуясь ползущему по шкале движку, радиола засвистела, засвиристела, что-то хрипло выкрикнула, взвыла, забормотала на инопланетных языках – пространство ворвалось в комнату и пыталось внушить что-то девочке, терпеливо крутившей ручку настройки.
Но оно не успело: сквозь его завывания и хрип пробилась мелодия, окрепла, заглушила шум.
Чистые голоса саксофонов, дребезжание банджо, фортепьянные аккорды, кваканье труб, дробь барабанов – девочка была довольна.
Она забралась с ногами на диван и оглядела свои владения.
Комната была убрана к празднику – вымыты полы, разложены по местам вещи, хлам повседневной жизни растыркан по незаметным местам. Темнота скрывала нищий достаток комнаты, а огни елки придавали ей уют и благообразность, которых она была лишена при свете.
В темной, почти черной хвое елки то и дело вспыхивали тусклые отблески игрушек, слегка позванивавших при едва заметных сотрясениях пола, когда мимо дома презжал троллейбус.
Тихий нежный перезвон игрушек в темной комнате, освещаемой лишь слабыми разноцветными огоньками елки, желтым свечением шкалы радиоприемника и зеленым маяком его глаза, казался девочке олицетворением любимого праздника, который она – вот удача! – впервые, пусть и с опозданием на два дня, отмечала одна.
Она сидела в темной комнате, где светилась и звенела елка, а в радиоле труба выпевала отчетливо: «Туру-тутуру турутуту-туту…».
Девочка знала эту мелодию и стала подпевать трубе: «Изба-читальня, сто второй этаж, там кучка негров лабает стильный джаз… – и опять вступала труба, – турутуру-ру, турутуру-ру, туру-туру, турутуру, ру».
Девочка грызла пахлаву и наслаждалась жизнью.
Ей редко доводилось оставаться дома одной, чуть ли не в первый раз это случилось сегодня, и она была в полном восторге от выпавшего такого счастливого случая: надо же – все ушли, а она осталась!
Дядя и тетя были званы в гости, бабушка повезла младших детей на праздничное представление в цирк, для девочки билета достать не смогли, и неожиданно вся квартира оказалась в полном ее распоряжении.
– Только никого не приводи, – строго сказала бабушка, надевая пальто, – убирай потом после вас.
Бабушка не понимала. Никто не понимал, да и не пытался понять, каким редким счастьем было одиночество – им следовало не делиться с кем бы то ни было, а наслаждаться самой, бережно и подробно.
И девочка изо всех сил старалась не упустить свой шанс: мелкими кусочками ела слишком дорогую для ее семьи, а потому редкую ветчину, столь же мелкие крошки отгрызала от пряной ореховой начинки пахлавы, смотрела на огни елки, тусклое свечение ее игрушек, вслушивалась в их слабый нежный перезвон и подпевала саксофону.
Он словно бы обволакивал ее своим звучанием, она купалась в его нежном, но мощном голосе, и ее маленькое сердце таяло и екало в теплом потоке музыки: «Саммер тааааайм…».
Радиола то щурила, то вытаращивала свой зеленый глаз в такт мелодии – так щурится и вытаращивается лежащая на коленях кошка, когда чьи-нибудь пальцы теребят и перебирают ее теплую и мягкую шерсть.
Понимала.
6. Где начало того конца?
В тот год она окончила институт, получила на руки темно-синий диплом с гербом на обложке, сдала ключ от комнаты в общежитии, забрала оттуда вещи, но по распределению все никак не уезжала.
Жить ей было негде, она скиталась по знакомым. Вещи, упакованные в большие картонные коробки из-под яиц, были свалены в камере хранения рабочего общежития, где ее подруга работала воспитателем.
Подруга эта уехала в отпуск, жить в ее комнате было невозможно: у соседки, что ни вечер, собиралась пьяная компания, а разогнать ее было некому.
Пару ночей она провела в соседней квартире, где чуть не круглые сутки вопил дурниной младенец и не менее громко и противно пыталась угомонить его приехавшая из деревни бабка.
Уехать из Москвы было невозможно, немыслимо.
Москва пропахла в ту весну арбузом: стригли газоны. Запах свежести сплетался в сложный узор с другими истинно московскими запахами – бензина, цветущей сирени, мокрых после дождя тополей, теплого ветра, дующего из вестибюлей метро.
Время, казалось, остановилось, а с ним остановилась, впала в оцепенение и она.
Насыщенная событиями и действиями жизнь так внезапно подошла к своему концу, что подготовиться к встрече с ним она просто не успела и повисла над пустым провалом, в который должно было ей кануть с отъездом из Москвы.
Она и раньше покидала город, но отлучки эти бывали кратковременными – каникулы, праздники – и всегда обещали возвращение, никогда не подразумевали вечной разлуки.
Теперь же отъезд становился фатальным, он означал, что назад дороги нет, что Москва будет утеряна навсегда, как только она купит билет на поезд.
Игры кончились – это было так понятно, так неправильно и несправедливо, что душа ее отказывалась признать окончательность положения дел, все рвалась назад, туда, где оставались относительная беззаботность, легкость, право жить бездумно, жить сегодняшним днем.
Уехать из Москвы означало выпасть из привычного измерения, из родного воздуха, из гнезда, из уютной, знакомой до мельчайших подробностей жизни.
Отъезд из Москвы означал наличие другой реальности, никак не пересекавшейся с той, откуда ее выдирала, с мясом и кровью, наступающая жизнь, не оставляя ей лазейки для возвращения, не даря средства для заживления ран.
В новой реальности, в незнакомом измерении ее не ждало ничего, кроме лямки повседневной работы, не обещавшей никакой отрады ни уму, ни сердцу.
Лямку учебы тоже приходилось тащить ежедневно и желательно без сбоев, но учеба окрыляла и приподнимала над действительностью, дарила некую неясную, но возвышенную цель, возбуждала; была, скорее, увлекательной интеллектуальной игрой, требовавшей азарта и сосредоточенности только на ней.
Теперь крылья эти опали, разлетелись в прах, а отъезд из Москвы доказывал, что они утеряны навсегда, что в провале другой реальности, разинувшем свой зев под ее ногами, ничего, кроме повседневности, и не будет, придется барахтаться в ней до конца жизни, имея одну лишь низменную цель – обеспечить свое существование, – позабыв о том душевном подъеме, который она испытывала все годы учебы.
Она ходила по Москве, ловила контрамарки и «лишние билетики» в театры, вдыхала запахи свежего хлеба и сдобы в булочной Филиппова, запах кофе в Чайном домике у Главпочтамта, запахи московского неба, московских берез, запах речной воды при катании на речном трамвайчике…
И цепенела все сильнее.
Все дальше уходила от нее Москва.
Она уже была чужой здесь, уже потеряла право на эти улицы, эти витрины, кресла в театральных залах, на запахи и звуки. Москва уже отринула ее, и она ходила туда и сюда воровато, чувствуя за собой какую-то вину, понимая, что пользуется чужим, не своим, краденым.
Москва уходила, отворачивалась, не помнила о ней.
Она цеплялась за эту уходящую громадину, не в силах поверить, что их роман пришел к завершению, как приходит к завершению любой роман на этом свете.
Душа ее цепенела от этого открытия.
И никак не хотела поверить в необратимость конца.
7. Цирк
В ту осень они с мамой жили вдвоем. И часть зимы тоже. Бабушка уехала к своему младшему сыну, брату мамы, и забрала с собой младшего внука, брата девочки.
Жить вдвоем с мамой оказалось не очень весело, тем более что осень и зима были на редкость дождливые, в доме устойчиво держался сырой холод, печку мама топила только придя с работы, и девочка весь день проводила одна в неуютном одиночестве.
Она попробовала однажды самостоятельно разжечь огонь в печи, но только зря извела растопку, мама вечером очень ругалась.
Девочка вообще была плохо приспособлена к жизни без бабушки.
То она у керосинки не в ту сторону крутила колесико, и фитиль выпадал в резервуар с керосином, то задремывала, пока грелся обед, отчего гречневый суп превращался в кашу с вкраплениями подгоревшей картошки, ужасно соленую, и мама опять ругалась…
Пришлось идти на хитрость и не греть еду, а поедать жареную картошку холодной и запивать ее холодной водой. Ну, или заедать мандаринами: их всегда дома было много, целые ящики.
Правда, девочка нашла крупный плюс в отсутствии бабушки: можно было читать во время еды, главное – вовремя сунуть книгу в шкаф и не забыть запереть его застекленные дверцы, потому что к Мопассану и сказкам Шехерезады мама строго-настрого запретила прикасаться. Ключик, несмотря на запрет, тем не менее в дверце шкафа торчал постоянно, видимо, мама считала, что дочь не решится нарушить ее приказ – и как же, получается, она ошибалась!
Кроме ущербного быта и дождей осень ознаменовалась открытием цирка, что очень оживило культурную жизнь и города, и девочки.
Программа менялась каждые две недели, и каждые две недели мама водила дочь на представление.
Они встречались возле цирка, потому что приехать после работы домой мама не успевала: она работала в центре, до цирка ей было идти минут пять, не больше.
Они приходили одними из первых и видели, как униформа готовит арену – граблями разравнивает опилки или покрывает их ярко раскрашенными щитами, как проверяют лонжи и трапеции, как оркестр рассаживается по местам. Наконец раздавались первые аккорды марша и начинался парад-алле.
Девочка сидела тихо, держа на коленях пальто, смотрела на девушек-гимнасток, внутренне сжимаясь всякий раз, когда те, отпустив трапецию, летели к вытянутым рукам партнеров, висящих вниз головой.
Радостно хохотала навстречу облаку звонкого лая, с которым на арену вылетала орава мелких собачонок и начинала свои фортели: прыжки, сальто, танцы на задних лапках, катание в тележках мартышек, одетых в платьях и пиджачные пары.
Дрессированные медведи ей тоже нравились: они, казалось, с удовольствием ездили на велосипедах, роликовых коньках и самокатах, качались на качелях и танцевали в обнимку с дрессировщиком.
Так же радостно выглядели собаки побольше, игравшие в футбол и азартно гонявшиеся за воздушным шариком, служившим им мячом, покуда в пылу сражения кто-нибудь из них не прокусывал его.
Хороши были и наездники – особенно один из них произвел на девочку неизгладимое впечатление.
В отличие от целых банд джигитов, наполнявших здание цирка дикими вскриками, свистом и одобрительными хлопками, он работал один.
Был он высок и бледен, всегда одет в черное, и лошадь у него была вороная – с широкой спиной и сухой головой.
Стоя на спине своей лошади, он проделывал разные акробатические штуки, покуда она ровной рысью круг за кругом, ни разу не сбиваясь с ноги, все бежала и бежала вокруг арены.
В цирке гасили огни и, невидимый в темноте, человек в черном на черной лошади начинал жонглировать факелами и прыгать сквозь горящее кольцо, которое спускалось на канате из-под крыши цирка.
Девочка, затаив дыхание, следила за этой феерией и испытывала нечто вроде влюбленности в человека, приглаживавшего рукой светлые волосы, растрепавшиеся после поклонов.
Лошадь тоже кланялась, припадая на передние ноги, а затем они оба уходили за кулисы – тут и начинался антракт.
Публика побогаче шла в буфет, уходила и мама – выкурить папиросу в туалете.
Девочка жевала бутерброд с колбасой, который мама доставала из своей сумки, потом грызла яблоко, следила, как на арене вырастает клетка для тигров или львов, и думала о том, что лучше бы еще раз выступил фокусник, потому что в первом отделении она не успела увидеть, откуда берется аквариум с водой и крякающей уткой под красивым шелковым платком, которым фокусник накрыл совершенно пустой цилиндр, составленный из разноцветных колец, – он ведь сам его и составил, еще и руку в него просунул, чтобы показать, что цилиндр пуст.
Непонятно, как он это делал?!
И непонятно было пребывание на арене молодой женщины, полуодетой в струящийся шелк, которая абсолютно ничего не делала, только красиво ходила вокруг фокусника и показывала на него публике рукой, хотя публика и так смотрела на артиста во все глаза, пытаясь определить, в каком месте ее обманывают.
Музыкальные эксцентрики тоже нравились девочке, они смешно дули в тромбоны ноздрями, играли на скрипках, летая под куполом на лонжах или прыгая на батуте, – девочка завидовала их умению играть на разных инструментах и той легкости, с которой они балансировали то на бутылках, то на проволоке.
Женщину-змею она не любила, да и ту, что, лежа на спине, подкидывала ногами разные предметы, – тоже: обе они казались девочке скучными и непристойными одновременно.
Честно говоря, ее и акробатки смущали тоже. Ей казалось неприличным, что вся публика в цирке видит их трусы, плотно обтягивавшие увесистые зады, и она старательно отводила глаза от девушек, когда те с равнодушным видом лезли по веревочным лестницам на площадки, схожие с корабельными клотиками (девочка была начитана и полна аллюзий).
Она предпочла бы этим странным номерам что-нибудь менее двусмысленное, но только не дрессировщицу голубей: несмотря на ее пышное, как у феи, белое платье, номер оказался нудным до зевоты, каким-то приторным и излишне жеманным, собачки были лучше.
А однажды в программе участвовал человек, поднимавший тяжести, и он поднял целый грузовик, в кузове которого сидело пять или шесть человек!
Девочка в ужасе ждала, что у него сейчас «жила лопнет», как она прочла у Горького – про человека, поднявшего что-то слишком для него тяжелое и болевшего потом всю жизнь, – но все обошлось, силач отхватил свою порцию оваций, а девочка смогла перевести дух.
Господи, как ей нравились эти громадные полосатые кошки!
Львы оставляли ее равнодушной, но тигры…
У них были такие рожи, что девочке хотелось иногда пролезть сквозь решетку и трепать огрызающихся зверей за уши и холки, чесать им подбородки, гладить и теребить.
Собственно, так и вела себя невысокая женщина в черном костюме и с хлыстом в руке.
Она переступала по опилкам арены ногами, обутыми в черные ботфорты, и была похожа на Аллу Ларионову из фильма «Двенадцатая ночь» – девочка ей очень завидовала!
Тигры огрызались, замахивались на свою госпожу лапами, но в целом их поведение не слишком отличалось от поведения кошки Читы, которая, хоть и любила лежать на коленях у девочки, когда та читала, сидя на низенькой скамеечке возле натопленной печки, все же держала ее в черном теле, спуску не давала, и у девочки вечно были расцарапаны руки – следствие ее неоправданно развязного поведения с маленькой самолюбивой хищницей.
Девочка хотела бы стать укротительницей, но знала, что этому не бывать: у нее не было «куража».
Об этом необходимом каждому дрессировщику качестве она вычитала в одной из многочисленных проглоченных ею книг, трезво оценила себя с этой точки зрения и поняла, что навсегда останется благодарным и восхищенным зрителем.
Лет через двадцать, правда, станет ясно, что интерес и восхищение перед дрессурой исчезли, а на смену им пришли жалость к бедолагам-тиграм и неприязнь к человеку, вынуждавшему их делать противоестественные для зверей вещи, и тогда выросшая девочка с грустью поймет, что ее цирк исчез навсегда.
Но до этого дня еще нужно было дожить, а пока тянулась и тянулась хмурая осень, плесневел хлеб, листы учебников и тетрадей перестали шуршать, холодная картошка вызывала жажду и ощущение сиротства, мандарины не утоляли томления сердца, а в центре города, довольно далеко от дома, где девочка училась жизни в одиночестве, над зданием цирка каждый вечер вспыхивали зазывные огни.
Через две недели девочка опять пройдет под их сияющей аркой.
Через две недели в честь ее визита оркестр опять сыграет свой марш.
8. Одновременно
Странно, но природе, казалось, был известен человеческий календарь.
Еще тридцатого или даже тридцать первого августа зной дрожал над разогретым асфальтом улиц и серым песком пляжа, а уже первого сентября утро вдруг оказывалось прохладным.
Прохлада бесшумно втекала в комнату через открытое окно, забранное сеткой от комаров, заставляла отбиваться от ее узких свежих ладоней, гладивших лицо и изгонявших последний сон, ежиться и свертываться калачиком под простыней; в результате девочка смирялась и сердито поднималась с постели задолго до будильника.
Взрослые считали, что это она так волнуется из-за начала очередного учебного года, что ей надоели каникулы и хочется поскорее начала занятий.
Каникулы, таки да, отчасти надоедали, но просыпалась она именно из-за перемены погоды.
Днем все еще бывало жарко, но утра становились все прохладнее и все дольше прохлада задерживалась на улицах города, отнимая у жары ее законные полуденные часы, покуда та, теснимая неотвратимо свежевшим воздухом, не отступала в края, где о свежести и прохладе ничего известно не было и где можно было переждать их ежегодное вторжение в иные пределы.
Девочке и в голову не приходило объяснять все это взрослым, они могли думать по ее поводу что заблагорассудится, главное, сама она знала, что природа следит за календарем людей и старается придерживаться установленного им порядка.
Установленный календарем порядок означал, что наступала осень, лету полагалось сдаться, его праздник приходил к концу, а девочку ждали долгие будни, что было правильно и справедливо: осень, зима, плохая погода, слякоть, сырость были несовместимы с понятием праздника или выходного дня. Только и оставалось зимой, что учиться, поэтому недовольства наступлением осени девочка, как другие дети, не испытывала никогда.
Она привычно выходила из дома и решала, какой дорогой идти в школу, просто витязь на распутье!
Короткая дорога – через дворы – использовалась в плохую погоду или при недостатке времени, ее черед наступит позже, а пока держались хорошие дни и просыпаться утром было легко, девочка ходила в школу по улице, идущей параллельно морскому берегу.
Солнце уже встало, но еще не поднялось высоко, не слепило глаза.
Казалось, оно выбралось на берег после купания и роняет капли соленой воды, которые, упав назад в море, образовали светящуюся сеть, через которую тусклым жемчугом слегка голубела морская гладь.
Время позволяло девочке не спешить, она шла нога за ногу и думала о том, сколько детей разного возраста сейчас идут, как и она, в школу – кто-то в том же направлении, кто-то – туда, кто-то – оттуда, а другие и вовсе наоборот.
Немногочисленные взрослые шли по той же улице на работу. Одни обгоняли девочку, другие шли ей навстречу, и она думала, что ведь и взрослых, идущих на работу, сейчас по всей Земле тоже очень много.
Тут она стала думать, что разбудившее их Солнце откуда-то ведь ушло, и там, значит, наступила ночь, а это означало, что одновременно с ней, идущей в школу, и со взрослыми, идущими на работу, где-то, откуда ушло Солнце, дети и взрослые легли или ложатся спать.
«Но и на работу тоже кто-нибудь идет – ведь некоторые взрослые работают в ночную смену, – подумала девочка, – а кто-то идет с работы, если он во вторую смену работал. Только дети никуда не идут, ночных школ для детей не бывает».
Но тут же она подумала, что есть места, где утро наступило на несколько часов раньше, и там уроки в школах вполне уже могли закончиться! И вот странность: она идет в школу, а те дети одновременно с ней идут из школы домой!
О проекте
О подписке
Другие проекты



