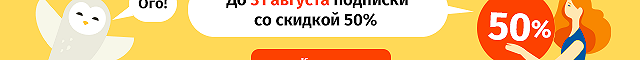
Глава 2. Замок и бордель
Дисклеймер автора
Следующая глава является художественным вымыслом.
Все персонажи и события в ней созданы воображением автора и не претендуют на точное соответствие историческим фактам. Любые совпадения с реальными людьми случайны.
Автор выражает глубокое уважение к памяти всех, кто пережил годы Великой Отечественной войны, и подчёркивает, что цель описания этих событий – показать внутренний мир человека на войне, а не оправдать или осудить какую-либо из сторон.
В главе упоминаются сцены насилия, утраты и моральных выборов, что может быть тяжёлым для читателей.Автор подчёркивает, что эти сцены не служат прославлению жестокости и категорически осуждает любую форму экстремизма, насилия или дискриминации.
***
Мигель продолжал стоять у окна, провожая Терезу взглядом. Его фигура, высокая и мощная, с тяжёлым подбородком и пробивающейся сединой на висках, стояла неподвижно, только лучи уличных фонарей освещали черты его лица, резкие и грубые с хищным изгибом губ. Ничто в его облике не вызывало доверия, разве что голос – низкий, размеренный, способный отдавать приказы шёпотом, без намёка на повышение тона.
В его пальцах была зажата почти догоревшая кубинская сигара из его личной коллекции, с узнаваемым клеймом Castro. Левой ладонью он невольно провёл по шраму под рёбрами, грубому и неровному, память о пуле, оставившей этот след, то и дело возвращала его в день, когда он появился.
Ленинградский фронт. Октябрь 1942
Штабной блиндаж 269-го полка, входившего в состав 250-й «Голубой дивизии» под Путролово. Холод проникал даже сквозь толстые брёвна. Мигель, тогда ещё капрал Монтес, стоял у входа, докуривая самокрутку. Рана на боку ныла, «сквозное пулевое» зафиксировали тогда в лазаретных записях.
– Капрал, – сказал лейтенант Вилар, указывая на вход. – Подполковник разрешил вам присутствовать.
В душной тесноте блиндажа сидел пленный. Лицо его, покрытое ссадинами и слоем дорожной пыли, оставалось спокойным, но его взгляд был цепким и оценивающим, таким, который бывает только у людей, привыкших в считанные секунды принимать решения на грани между жизнью и смертью. Он сидел чуть сгорбившись, но не от страха, скорее, сохраняя остатки тепла в промерзшем теле, и его руки, лежащие на коленях, время от времени продолжали сжимать невидимое оружие.
Переводчик шепнул:
– Николай Громов, 27 лет. Бывший механик. Попал в плен с трофейным «шмайссером».
Пленного долго допрашивали и, когда речь зашла о нападении на позиции, Мигель заметил, что его глаза на миг остановились на его перевязке.
– Он участвовал в том налёте, – прошептал он капитану Ортеге.
– Почему вы так решили?
– Он узнал меня. Смотрит на рану.
Мигель резко поднялся, нарушая протокол, подошёл к пленному и отдёрнул бинт, обнажив незажившую рану.
– Твоя работа? – спросил он по-испански.
Несколько секунд тишины, затем партизан ухмыльнулся:
– Ты тот, кто прятался за убитой лошадью? Жаль, патроны кончились.
Мигель Монтес родился в знатной, но обедневшей испанской семье, чьи предки когда-то служили при королевском дворе. После Гражданской войны в Испании и победы франкистов его род окончательно лишился влияния, а земля была конфискована новым режимом. Юный Мигель, воспитанный на рассказах о былом величии, жаждал восстановить статус семьи, но в новой Испании для этого не было места.
Когда Германия напала на СССР, Франко, сохраняя формальный нейтралитет, разрешил формирование «Голубой дивизии» – добровольческого подразделения для войны против большевиков. Для Мигеля это был шанс, так как война сулила не только приключения, но и возможность заслужить благосклонность режима, получить чины, связи, а главное – власть. Он верил, что героизм на фронте откроет ему дорогу в высшие круги, где он сможет вновь поднять имя Монтесов. Но война оказалась не романтичной кампанией, а кровавой мясорубкой. Под Ленинградом, в грязи и холоде, он быстро понял, что слава достаётся не храбрым, а хитрым. Его ранение в перестрелке с партизанами стало поворотным моментом, впервые он столкнулся лицом к лицу с врагом, который сражался не за ордена, а за что-то иное, этот враг – Николай Громов – теперь сидел перед ним, насмешливо напоминая о том, что война не выбирает, кто достоин власти, а кто смерти.
Путролово. 06:30 утра следующего дня
Рассвет затягивался туманом, клубившимся над болотами ленинградских топей, где даже земля дышала сыростью и смертью. Во время войны там продолжали тонуть в трясине сосны, всё те же белесые испарения поднимались от чёрной воды, скрывая следы. Здесь и летом холодно, а уж в октябре болота и вовсе казались преддверием ада, смешивая грязь, острые запахи гнилого тростника, и вечное ощущение, что под ногами не земля, а зыбкая грань между мирами. Испанцы из «Голубой дивизии» ненавидели эти места. Они привыкли к сухому кастильскому ветру и к жёсткому солнцу, а тут вечная сырость, пробирающая до костей, и небо, низкое, как крышка гроба.
Восемь солдат выстроились в линию. Винтовки прижаты к плечу. Мигель стоял вторым справа, пальцы в шершавых перчатках сжимали приклад Mauser 98k, а Николай Громов стоял у стены амбара, спиной к почерневшим от времени доскам. Холодный ветер шевелил его всклокоченные волосы, но он не дрожал. Впереди была только расстрельная команда, а позади вся его жизнь, которая оборвётся через несколько секунд. Он не просил пощады и не молился, вместо этого он запел.
– Расцветали яблони и груши…
Голос его был хрипловатым, но твёрдым. В голове всплыли образы, которые он уносил с собой в небытие: его жена Катюша. Её улыбка, когда они впервые танцевали под эту песню на деревенских посиделках и тёплые руки, обнимавшие его перед отправкой на фронт. Гоша – их сын, годовалый карапуз, который теперь навсегда останется в его памяти пухлым малышом, тыкающим пальчиком в отцовские усы. Николай Громов так и не увидит, как Гоша сделает первый шаг и не услышит, как тот назовёт его папой. Не сможет обнять Катюшу, когда она будет плакать, получив похоронку. Но он не дал им увидеть его страх.
Мигель крепче вжал приклад в плечо, а курок мягко упирался в подушечку указательного пальца, но пленный всё ещё продолжал петь, не сводя с него глаз.
– Поплыли туманы над рекой…
Его учили не дёргать, не бояться, сделать плавный выдох и лёгкое давление.
– Выходила на берег Катюша…
Палец нажал на спуск, раздался щелчок, задержка всего в 0,004 секунды, но этого было достаточно, чтобы заметить, что пение прервалось. Удар и почти четыре килограмма винтовки дёрнули назад. Приклад, несмотря на амортизатор, больно врезался в плечо. Дым затянул всё на секунду, но когда сероватая пелена рассеялась, Мигель увидел, что пуля вошла точно туда, куда он целился. Однако ни торжества, ни облегчения он не ощутил. Только тупую боль в плече и металлический привкус во рту.
* * *
Легкий ожог от догоревшей сигары вернул его в кабинет. Он ткнул остаток сигары в пепельницу и повернулся к портрету Франко с оборвавшейся в ноябре 1975 года цепью, когда по радио зачитали последний бюллетень о смерти каудильо[12]. Он не стал чинить, оставив её как напоминание, что и железные цепи рвутся.
В отражении стекла его лицо наложилось на портрет, заметив это, Мигель заговорил с ним.
– Мы с тобой похожи, Франсиско… Ты верил, что Испания – это замок, а я знал, что она – бордель, но мы оба охраняли дверь с одинаковым рвением. Ты ставил у входа гвардейцев, а я шлюх с фотографиями. Твоим ключом были приказы, а моим – компромат, но по итогу оказалось, что результат у нас одинаковый – пока одни охраняют дверь, другие проходят через окно. И замок, и бордель в итоге принадлежат тем, кто решает, кого впустить.
Где-то скрипнула дверь, Мигель обернулся, но в дверях никого не увидел.
– Они уже идут, Франсиско. Твои генералы или мои банкиры, все эти крысы, которые почуяли, что корабль тонет. Ты оставил им трон. Я – грязь, на которой он стоит.
Дверь бесшумно открылась.
– Papá?
В кабинет вошла Мария, аккуратно поправляя складки голубого платья. Она была живым воплощением отцовских противоречий, с виду хрупкая, как фарфоровая кукла, с мягкими чертами лица и привычкой опускать ресницы, делая вид, что стесняется даже собственного голоса, но те, кто знал её ближе, видели её холодноватый блеск в глазах и едва уловимую манеру взвешивать каждое слово. Она росла в тени отца, научившись извлекать выгоду из его имени, но при этом, с детской жестокостью привыкла получать всё, чего хотела.
– Ты опять не спишь… – в её голосе звучала забота, но глаза скользили по бумагам на его столе. – Доктор говорил, тебе нужен отдых.
– Дон Альварес приходил сегодня? – не оборачиваясь, спросил он.
– Да… – Мария опустила глаза, перебирая чётки с деревянными бусинами, подарок на её первое причастие, но теперь это был лишь аксессуар, придающий образу невинность.
– Принёс коробку конфет. Сказал, что Сантино очень хочет поступить в дипломатическую академию. Я обещала, что ты поговоришь с ректором. Ты же его знаешь, правда?
Её новой прихотью стал Сантино Альварес, который с самых пелёнок воспитывался для светских раутов, а не для страстей. Высокий, с безупречными чертами лица, унаследованными от матери-итальянки, он говорил на трёх языках, но не имел ни одной собственной мысли. Его смех звучал ровно столько, сколько требовалось по этикету, а ухаживания ограничивались стандартным набором комплиментов, заученных ещё в колледже. Именно это равнодушие и сводило Марию с ума. Она, привыкшая к мгновенному исполнению желаний, впервые столкнулась с тем, что нельзя купить или выпросить у отца. Сантино был как изящная безделушка за витриной – красивый, но холодный, и её детское возмущение невозможностью обладания лишь разжигало болезненную одержимость.
Его отец Дон Альварес, старый соратник Мигеля понимал, что этот брак – не более чем сделка, но отказать другу он не мог, да и выгоды для семьи были очевидны.
Мигель наконец повернулся, обратив всё своё внимание на Марию, стоявшую перед ним, немного склонив голову, изображая безупречную покорность. Только уголки её губ дрожали от сдерживаемой улыбки.
– Конечно, mi vida[13]. Я всё устрою.
Она поцеловала его в щеку и зашагала к двери. Дверь закрылась бесшумно, оставив Мигеля наедине с портретом Франко.
– Ты бы её одобрил, Франсиско, – сказал он, указывая бокалом в сторону двери и подмигивая тусклому лицу на стене. – Как и Терезу десять лет назад. Она была такая же невинная…
Коньяк забродил на языке, оставляя тяжёлое, знакомое послевкусие. Он вспомнил тот первый день, когда увидел Терезу в ателье её отца. Она стояла у манекена, подшивая подол платья, в её движениях была та же мягкая девичья грация, что сейчас у Марии.
– Невинность – это лучшая маскировка для девушки, – подумал Мигель, наблюдая, как по стенкам бокала стекают капли, затем подошёл к книжному шкафу, где между потрёпанным томиком Лорки с пометками на полях и роскошным собранием Кальдерона в кожаном переплёте он прятал снимок, вырванный из прошлого. На нём Тереза смеялась, не подозревая, что через три дня встретит его, а ещё через неделю этот снимок исчезнет со стены ателье. В тот вечер Мигель там немного задержался, не отводя глаз от её изображения, и у него появилась странная убеждённость в том, что, если он заберёт этот кусочек её жизни себе и будет хранить его близко к сердцу, то сама Тереза невольно потянется к нему.
– Ей было двадцать, столько же, сколько Марии сейчас. Разница лишь в том, что Тереза когда-то тоже носила эту невинность, но естественно, – тихо добавил он, проводя пальцем по пожелтевшему краю. – Видишь, Франсиско, в этом вся ирония. Она стояла там, в своём ателье, с булавками в зубах, с ножницами в руках, уверенная, что создаёт красоту, и каждый её стежок приковывал меня к ней. Ты ведь понимаешь, о чём я?
Он усмехнулся и продолжил:
– И самое смешное, она даже не догадывалась о том, что я готов на всё, что она была моей.
Мигель отошёл от портрета и тяжело опустился в кожаное кресло, которое сдавленно застонало под его весом. Он развалился в нём с нарочитой небрежностью, широко расставив ноги, демонстрируя свое право занимать столько пространства, сколько ему вздумается. Дрожащими от нетерпения пальцами он расстегнул воротник рубашки, освобождая вздувшиеся вены на шее. Опустившись еще глубже в кресло, он почувствовал, как возбуждение медленно разливается по телу, сжимая живот тугой пружиной.
О проекте
О подписке
