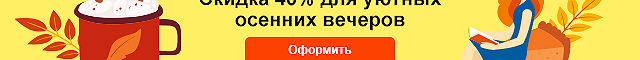
Все то, что нам известно о позиции правительства США по кубинскому вопросу, докладывал Громыко, позволяет сделать вывод, что обстановка, в общем, вполне удовлетворительная. Это подтверждается как официальными заявлениями деятелей США, включая президента Кеннеди, в том числе заявлением последнего в беседе с нами 18 октября, так и всей информацией, которая доходит до нас по неофициальным каналам. Есть основания считать, что США сейчас не готовят вторжение на Кубу и сделали ставку на то, чтобы путем помех экономическим связям Кубы с СССР расстроить ее экономику и вызвать голод в стране, а тем самым и восстание против режима. Главная причина занятой правительством США позиции, продолжал министр, состоит в том, что правительство США поражено смелостью акции СССР по оказанию помощи Кубе. Оно рассуждает так: советское правительство отдает себе отчет в том, какое большое значение американцы придают Кубе и ее положению и насколько болезненным для США является этот вопрос. Но раз СССР, зная об этом, идет на оказание такой помощи Кубе, значит, он полон решимости дать отпор в случае американского вторжения на Кубу. Нет единого мнения в том, как и где будет дан этот отпор, но что он будет дан – в этом не сомневаются.
В последние дни, писал далее Громыко, острота антикубинской кампании в США несколько уменьшилась и, соответственно, стала больше выпячиваться острота вопроса о Западном Берлине. Газеты шумят о надвигающемся кризисе в связи с Западным Берлином, о предстоящем чуть ли не в самое ближайшее время подписании мирного договора с ГДР и тому подобное. Цель такого изменения в деятельности пропагандистской машины и состоит в том, чтобы несколько отвлечь внимание общественного мнения от кубинского вопроса. Все это делается не без участия Белого дома. Есть даже слух о том, что СССР будто бы дает понять, что он сможет смягчить свою позицию в кубинском вопросе, если Запад смягчит свою позицию по Западному Берлину.
Полностью, конечно, нельзя и теперь быть застрахованным от неожиданностей и авантюр со стороны США в кубинском вопросе, заключал он. И все же, учитывая объективные факты и сделанные нам соответствующие официальные заверения об отсутствии у США планов вторжения на Кубу (что их, бесспорно, во многом связывает), можно сказать, что в этих условиях военная авантюра США против Кубы почти невероятна.
Таков был в целом успокоительный вывод Громыко накануне кубинского кризиса. Я попытался убедить его дать более осторожную оценку ситуации. Он не согласился: видимо, ему хотелось сделать приятное Хрущеву.
Начало кризиса. В центре событий
22 октября я вылетел в Нью-Йорк, чтобы проводить Громыко, который улетал в тот же день в Москву. Но и тогда он не сказал мне, что на Кубе размещаются советские ракеты с ядерными боеголовками (много лет спустя он заявил мне, что «исходил тогда из того, что я уже знал об этом»).
Как только в полдень улетел самолет Громыко, ко мне на аэродроме подошел сотрудник американской миссии при ООН и передал просьбу Раска посетить его в Госдепартаменте в тот же день, в 6 часов вечера. Поскольку у меня была уже назначена деловая встреча в Нью-Йорке вечером того же дня, я попросил американца узнать у Раска, нельзя ли перенести нашу с ним встречу на следующий день. Однако этот сотрудник сразу же сказал, что у него твердые инструкции от госсекретаря обеспечить эту встречу обязательно сегодня вечером. Мне стало ясно, что речь идет о чем-то очень серьезном, ибо Раск никогда до этого так категорично не настаивал на определенном часе наших встреч, соглашаясь на взаимоприемлемое время. Внутренний голос подсказывал – произошло нечто важное, но что именно, я не знал – то ли этот вызов связан с Кубой, то ли с Западным Берлином.
Я срочно вылетел в Вашингтон и был у Раска в назначенное время, то есть в 6 часов вечера 22 октября.
Госсекретарь сказал, что у него есть поручение президента передать через меня личное послание президента Хрущеву по кубинскому вопросу, а также вручить для сведения текст обращения президента к американскому народу, с которым он намерен выступить в 7 часов вечера по радио и телевидению. Раск предупредил далее, что у него на этот раз имеются инструкции не отвечать ни на какие вопросы по тексту обоих документов и не комментировать их. «Эти документы, – добавил он, – говорят сами за себя».
В своем обращении к народу 22 октября Кеннеди объявлял об установлении «карантина на все виды наступательного оружия, перевозимого на Кубу».
В личном письме, направленном Хрущеву, Кеннеди указывал, что, как и в берлинском вопросе, он в свое время прямо заявлял, что если события вокруг Кубы примут определенную направленность, то США сделают все необходимое для защиты своей безопасности и своих союзников. Тем не менее быстрое развертывание баз для ракет средней дальности на Кубе и другого наступательного оружия произошло. «Я должен Вам заявить, что США полны решимости устранить эту угрозу безопасности нашему полушарию». Кеннеди говорил, что принимаемые им меры составляют лишь «необходимый минимум», и выразил надежду, что советское правительство воздержится от любых акций, могущих лишь углубить этот опасный кризис.
Я выразил удивление, что ни президент, ни Раск не сочли необходимым открыто переговорить по всем этим вопросам во время встречи с Громыко.
Раск промолчал. Он был явно взвинчен, хотя и старался это скрыть. На этом встреча закончилась. Затем в Госдепартамент были вызваны почти все послы (кроме социалистических стран), им вручили тексты речи президента с соответствующими комментариями руководящих сотрудников Госдепартамента. Перед моим уходом Раск заметил, что пока не предполагается опубликование личного письма Кеннеди Хрущеву, но что в целом такую возможность исключать нельзя (письмо так и не было тогда опубликовано).
Вернувшись в посольство, я минут десять – пятнадцать провел в одиночестве в своем кабинете, чтобы немного «остыть» и по возможности взвешенно оценить обстановку. Разговор с Раском вызвал у меня понятную тревогу. Я впервые так остро почувствовал всю серьезность ситуации. Дело явно шло к крупному и опасному кризису в отношениях с Соединенными Штатами. Об этой оценке я немедленно доложил в Москву, понимая, что моя телеграмма о беседе с Раском явится для советского руководства большой и тревожной неожиданностью в свете недавней успокоительной телеграммы Громыко о его беседе с президентом Кеннеди. Осторожный Громыко давно так не ошибался в своих оценках!
Но главный просчет был допущен самим Хрущевым. Он не предвидел возможности внезапной резкой реакции США, и у него не было запасного сценария на такой случай. В результате он был вынужден лихорадочно импровизировать по ходу бурных событий и оказался в опасной кризисной ситуации, которая сильно подорвала его позиции в мире и в стране.
После отправки срочной телеграммы правительству о беседе с Раском я тут же созвал руководящий состав посольства. Поручив всем дипломатам самым внимательным образом следить за развитием событий, я подчеркнул серьезность ситуации, чреватой возможными осложнениями для самого посольства. Было введено круглосуточное дежурство дипломатических сотрудников. Семьи дипломатов, живших вне посольства (а таких было большинство), были предупреждены о необходимости соблюдать дополнительную осторожность. Было проведено отдельное совещание с руководителями наших разведслужб в связи с назревавшим кризисом и необходимостью сбора и подготовки для Москвы оперативной информации о развитии событий. В целом настроение в посольстве было тревожное, но не паническое. Продолжали работать по заведенному порядку. Массового сжигания документов, как спекулировали некоторые американские газеты, в посольстве не проводилось, так как мы считали, что кризис не дойдет до взаимной эвакуации посольств, хотя, конечно, некоторые документы и уничтожались. Уникальность обстановки для посольства заключалась в том, что я так и не получил из Москвы какой-либо ориентировки, что же именно сейчас происходит? Насколько были правдивы обвинения президента Кеннеди? Полное и загадочное молчание.
На следующий же день, во вторник 23 октября, Хрущев направил ответное послание президенту Кеннеди (оно также не публиковалось). В послании меры, объявленные Кеннеди, характеризовались как агрессивные против Кубы и СССР, как недопустимое вмешательство во внутренние дела Кубы и нарушение ее права «на оборону от агрессора». Отвергалось право США устанавливать контроль над судоходством в международных водах. Выражалась надежда на отмену соответствующих мер, объявленных Кеннеди, во избежание «катастрофических последствий для всего мира».
Посольство сообщило в Москву, что после телевизионного выступления Кеннеди напряженность обстановки в Вашингтоне возросла. Макнамара заявил, что США не остановятся перед потоплением советских судов, доставляющих на Кубу оружие «наступательных видов», если эти суда откажутся подчиниться требованиям американских военных кораблей. Отмечалось, что американцы сами начинают нервничать, ожидая, когда подойдет к Кубе первое – после заявления Кеннеди – советское судно (с этим вопросом многие американцы обращались прямо в посольство) и чем закончится эта первая «проба сил». Эта атмосфера напряженного ожидания вступила в новую фазу, когда президент опубликовал в тот же день официальное заявление, провозгласившее введение в действие «карантина» на поставки Кубе «наступательного оружия» с 14 часов 24 октября.
Напряженность в самом нашем посольстве усугублялась еще и тем обстоятельством, что я по-прежнему так и не получил в эти дни никакой информации из Москвы о нашей позиции в связи с объявленным «карантином». Вообще не было никаких указаний или ориентировок.
Надо сказать, что в начале кубинского кризиса произошел драматический эпизод из войны разведок. Он был неизвестен до последнего времени, но мог иметь самые роковые последствия. 22 октября в Москве был арестован Олег Пеньковский, давно завербованный американской (и английской) разведкой. Официально он работал в Комитете по делам науки и техники СССР. Но как сотрудник ГРУ Пеньковский имел доступ к важнейшей советской военной и государственной информации, которую он регулярно передавал ЦРУ. За эти заслуги ему было тайно присвоено, по его же тщеславной просьбе, звание американского полковника. Он добивался также негласной аудиенции у президента Кеннеди, а также у английской королевы, но в этом ему было отказано.
Как рассказал впоследствии видный американский ученый Гартхофф, работавший одно время в ЦРУ, Пеньковский получил от американской разведки только два кодированных телефонных сигнала, которые он должен был использовать для срочного уведомления ЦРУ: один – в случае непосредственной угрозы ареста; другой – в случае немедленной угрозы войны в результате подготовки советского ракетного удара по США.
Получилось так, что у Пеньковского непосредственно перед арестом было несколько минут для посылки сигналов, но он почему-то послал только один сигнал – о неминуемой угрозе войны, а не о своем аресте. Видимо, Пеньковский решил: если ему и погибать, то погибать со всем миром!
Несколько ответственных сотрудников ЦРУ, которые все эти годы работали с Пеньковским, немедленно доложили о его аресте (о чем им стало известно по другим каналам) директору ЦРУ Маккоуну, но умолчали о сигнале Пеньковского насчет войны. Они взяли на себя большую ответственность, но полагались на глубокое знание своего подопечного, страдавшего преувеличенным самомнением.
Трудно себе представить, как развивались бы события в разгар кубинского кризиса, если бы президент Кеннеди узнал о чрезвычайно тревожном сигнале Пеньковского. Американские вооруженные силы и так уже были приведены в глобальном масштабе в состояние повышенной боевой готовности.
23 октября поздно вечером ко мне пришел Роберт Кеннеди. Он явно был возбужден. Кеннеди сказал примерно следующее: «Я пришел по своей личной инициативе. Я счел необходимым пояснить, что именно привело к нынешнему весьма серьезному развитию событий. Более всего важно то, что личным отношениям президента и советского премьера, от которых так много зависит, нанесен серьезный ущерб. Президент чувствует себя обманутым, и эти чувства нашли свое отражение в его обращении к американскому народу».
Напомнив ряд предыдущих бесед на тему о поставках советского оружия на Кубу, Кеннеди отметил, что президент поверил всему, что говорилось с советской стороны, и, по существу, «поставил на карту свою политическую судьбу», публично заявив в США, что поставки на Кубу носят чисто оборонительный характер, хотя ряд республиканцев утверждал обратное. И вдруг президент получает достоверную информацию о том, что на Кубе вопреки всему тому, что говорилось советскими представителями, включая последние заверения Громыко в беседе с президентом, появились советские ракеты, поражающие почти всю территорию США. «Разве это оружие для оборонительных целей, о которых говорили Вы, Громыко, советское правительство и Хрущев?» – спросил он.
Президент почувствовал себя обманутым, и обманутым преднамеренно. Кеннеди воспринял это как тяжелый удар по всему тому, что он стремился сохранить в личных отношениях с главой советского правительства: взаимной вере в личные заверения друг друга.
Р. Кеннеди высказался далее в том смысле, что и конфиденциальный канал оказался скомпрометированным, если «даже советский посол, пользующийся, насколько нам известно, полным доверием своего правительства, не знает, что на Кубу уже доставлены ракеты, которые могут угрожать США, а не оборонительные ракеты, способные защищать Кубу от какого-либо нападения. Выходит, что, когда мы с Вами говорили раньше, Вы также не имели надежной информации» (в этом Р. Кеннеди был прав, и мне нечего было ему сказать).
В целом разговор на тему обмана президента носил напряженный и порой просто острый характер. После некоторых колебаний, я дословно передал в Москву все резкие высказывания Р. Кеннеди, включая не очень лестные относительно самого Хрущева и Громыко, чтобы там по-настоящему почувствовали настроение, которое царило в самом близком окружении президента. Это я считал важным для правильной оценки Кремлем общей нервозной обстановки в Вашингтоне. (Как я позже узнал от помощников Громыко, он распорядился вообще не рассылать эту мою телеграмму членам советского руководства, сказав, что доложит ее сам лично Хрущеву; как он поступил с ней дальше – неизвестно, но он не вернул эту телеграмму помощникам, и ее нет в архиве.)
В конце беседы Р. Кеннеди несколько успокоился и на мое заявление о том, что Хрущев дорожит личными отношениями с президентом, сказал, что последний, несмотря на случившееся, также продолжает дорожить ими.
Прощаясь, уже перед уходом, Р. Кеннеди как бы мимоходом спросил, какие имеются указания у капитанов советских судов, идущих на Кубу, в свете вчерашнего заявления президента Кеннеди и только что подписанной им декларации о недопущении – вплоть до применения силы – наступательного оружия на Кубу.
Я ответил, что мне известно о твердых указаниях, которые были даны капитанам ранее: не подчиняться чьим-либо незаконным требованиям об остановке и обысках в открытом море, как нарушающим международные нормы свободы судоходства. Приказ этот, насколько мне известно, не отменен.
Р. Кеннеди, махнув рукой, сказал: «Не знаю, чем все это кончится, ибо мы намерены останавливать ваши суда».
«Но это будет актом войны», – тут же предупредил я. Он покачал головой, но ничего не сказал.
И даже после этого важного разговора Москва продолжала держать наше посольство в полном неведении насчет своих намерений. Кстати, до конца кризиса посольство так и не было информировано о наличии на Кубе наших ядерных ракет. Позднее заместитель министра В. В. Кузнецов объяснил мне все это состоянием полного замешательства и растерянности Хрущева и всего советского руководства, когда Кеннеди отказался проглотить «горькую пилюлю» и когда они неожиданно для себя оказались вовлеченными в опасный водоворот событий вокруг Кубы.
Несколько слов о моих встречах с Робертом Кеннеди во время кубинского кризиса. Проходили они, как правило, поздно ночью (1–3 часа ночи), чтобы сохранить факт встречи в глубокой тайне. Встречались мы или у меня, в посольстве, или у него, в здании министерства юстиции, в его кабинете, куда я приходил через особый подъезд.
Когда он приезжал ко мне, то я встречал его у входа, а затем мы вдвоем поднимались на третий этаж в мою гостиную. Здесь мы и беседовали в ночной тишине. На встречах никто никогда не присутствовал, кроме нас двоих. Жена обычно оставляла нам кофе, а затем уходила в спальню. Все это накладывало отпечаток некоторой таинственности, отражая в то же время общую атмосферу напряженности тех дней в Вашингтоне. К тому же мой собеседник по своему характеру не был общительным и не обладал должным чувством юмора, что обычно помогает при сложных переговорах. Он бывал вспыльчив. Так или иначе наши беседы, подчас продолжительные, носили сугубо деловой характер.
23 октября президент Кеннеди послал Хрущеву новое письмо (текст был передан в МИД утром 24 октября). В нем Кеннеди выразил надежду, что Хрущев немедленно даст указание советским судам соблюдать условия карантина, которое объявляет правительство США.
В этот же день МИД передал в посольство США текст ответного письма Хрущева. В нем говорилось, что советское правительство рассматривает нарушение свободы международного мореходства и международного воздушного пространства «как акт агрессии, толкающий человечество на грань пропасти мировой ракетно-ядерной войны». Соответственно, советское правительство не может дать указание своим капитанам подчиняться приказам американских военно-морских сил, блокирующих остров Куба. Разумеется, «мы не будем только наблюдать за пиратскими действиями американских судов в открытом море; мы будем вынуждены со своей стороны принять необходимые меры для защиты наших прав; для этого у нас есть все необходимое».
24 октября был, пожалуй, самым напряженным днем за все длительное время моего пребывания на посту посла в США. По всем американским телевизионным станциям показывали нам, как советский танкер (возможно, с ракетами на борту) приближался к черте, установленной американской декларацией о карантине, за которой военные корабли США собирались останавливать и задерживать наши суда, идущие на Кубу, вплоть до их обстрела.
О проекте
О подписке