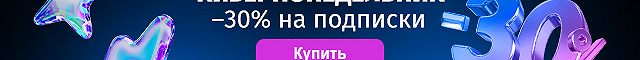
На другой день я строчил статью, а у меня буквально из-под пера хватали ее и тащили на машинку по листку. Так без всякого чтения и заслали в типографию. Я сам не знал, что там такое получилось, и поэтому поставил псевдоним».
Я нашел эту статью через пятьдесят с лишним лет. Она называется «Дело не в рубле». Написана бойконько. И все бы ничего, если бы еще в ее основе была элементарная правдивость. Дело-то было именно в рубле! Недостача по взносам очень печалила финхозсектор ЦК. Но про это нельзя было говорить вслух.
Совсем другую историю напоминает еще одно письмо домой. Корреспонденция в газете называлась «Почему паспорта лежат в сейфе», в ней говорилось о незаконном удержании на производстве молодых людей против их воли. «Статья написано неважно, – самокритично признавался автор. – Знаменательна тем, что цензура потребовала снять ее из номера. Но редактор проявил твердость, чего я от него совсем не ожидал, и статья увидела свет. После этого в редакцию пришло письмо от директора «Заозёрного» совхоза в очень грубом тоне, где он бездоказательно пытался обвинять меня во лжи. Редактор очень резко ответил ему (вернее, он поручил мне написать ответ и почти без изменений подписал его)».
Между моей командировкой в Верхнеуральский район и днем выхода этой статьи, точнее – даже ее написания, прошло много времени. Непростительно много. Меня в очередной раз подвела изменчивость времени. Оно снова то ли замедлилось, то ли, наоборот, понеслось куда-то. В свое оправдание могу сказать одно, для этого была причина первостепенной важности.
А случилось вот что. Я прямо с вокзала пришел в родную редакцию (да, она уже стала такой – газетчики поймут меня), а там ходит (именно ходит), как по своему дому, «Галка Режабек, наша внештатница». Только она уже в штате – учетчик отдела писем. И по всей «квартире» – напомню, наша контора располагалась в нормальном типовом жилье – то и дело можно было слышать: «Галка, Галке, у Галки…» То есть она уже здесь, и она здесь – своя! Пока я в глубинке вникал в особенности личностей парней из МТС (машинно-тракторная станция) и в каверзы партийно-хозяйственных бюрократов, в областном центре молодая учительница литературы решила раз и навсегда покончить со своей школьной профессией и начать новую жизнь – на сей раз в прессе.
Тут же я узнал информацию, которая до сих пор обходила меня. Оказывается, мою персону взяли на ставку, которую обещали ей, Галине. И вот теперь ввиду отсутствия других вакансий ей пришлось стать учетчицей писем.
Как в каком-то среднестатистическом спектакле. Она уже – едва ли не всеобщая любимица «народа». Мой предел мечтаний – как-то сблизиться с ней. А тут – ну прямо драматург Софронов! – обнаружившийся и все осложняющий бэкграунд наших разных приходов в коллектив. И главное: я от природы отнюдь не гусар во взаимоотношениях с женщинами.
Трудно сказать, какое бы реалистически правдивое разрешение могла иметь эта коллизия. Однако жизнь имеет привычку сплошь и рядом действовать по канонам расхожих пьес.
Был канун 1959 года. В один из последних декабрьских дней в редакции организовался предновогодний междусобойчик. Убей не помню, что там было. Но кончилось так: все разошлись, кроме меня и Гали. Она сказала:
– Пора домой.
И пошла к двери.
– Еще успеешь, – я указательным пальцем зацепил ее мизинец, легко потянул ее к себе, радостно отметив, как свободно, беспрепятственно она поддается этому моему едва заметному, можно сказать, нежному усилию. Мы приблизились друг к другу до степени головокружения, и я поцеловал ее в один глаз, а потом в другой. Не знаю, что меня толкнуло именно к этому, как и к словам, которые я сказал:
– У тебя не только самые красивые глаза, но и самые вкусные.
Она впоследствии не раз вспоминала эту мою тираду, вспоминала явно с удовлетворенностью. А тогда с удивлением сверкнула своим феерическим взглядом и с коротким смешком сказала:
– Вот как легко меня остановить, одним пальчиком…
И ушла.
А я остался потрясенно-недоуменным. Потрясенным – от того, что нагромождение моих каких-то разрозненных не очень осознанных поступков, туманных помышлений, нереальных предчувствий вдруг в одно мгновение стало само собой собираться во что-то целое и крайне значимое. Недоуменным: а что это вообще было? Можно ли к этому всерьез относиться? Я не дока в образе действий женской натуры, пока что в моей жизни эти действия все время заводили меня из одного логического тупика в другой.
Я был один в редакции, не считая бабушки-старушки со своим вечным вязанием, ночной сторожихи. Идти в мое общежитие дорожных строителей не хотелось. Вообще-то в моих планах было забуриться в один из двух ближайших ресторанов (это у меня уже стало «хорошей» традицией по вечерам). Но закончить такой ошеломляющий день столь буднично… Нет, никак не годилось.
Я ходил по кабинету взад-вперед – и думал?.. Вряд ли. Просто ходил, бессмысленно.
И раздался телефонный звонок.
– Сашка?
– Да.
– Что делаешь?
– Собираюсь пойти в ресторан.
– Стыдно.
Галя замолчала, но тихо повторяла в трубку как бы про себя: «Саш-ка… Саш-ка… Саш-ка» (даже так: «Сашш-ка»). Будто привыкала к слову. Наконец, сказала, очень разговорно-буднично:
– Ты знаешь ближайший скверик по Советской? Приходи сейчас туда. В самый край, возле улицы Коммуны.
Мы встретились. Фонарей там не было. Был мороз. Мы сидели на заснеженной скамейке. Я стащил с ее руки варежку и засунул эту руку в карман моего пальто. Мы целовались.
Время от времени, и даже после четырех десятков лет совместной жизни, Галина пыталась завязать со мной разговор на такую тему.
– А ведь я тогда узнала, что ты, когда пришел в редакцию, сказал, что к тебе приедет жена…
– Так, предупреждал на всякий случай. Не приехала же.
– Представляю себе. Появилась бы такая большая северная тетёха, выросшая на шаньгах и пельменях с редькой.
В моих рассказах о маминых родителях и вообще о коренном уральском житье-бытье ее, стопроцентную хохлушку, приводила в недоумение сама идея пельменей с редькой. И она с удовольствием «кормила» свою придуманную в ревнивом воображении соперницу этим диковинным и нелепым в ее представлении продуктом.
Я отвечал жене, что вся эта материя покрылась ржавчиной по давности лет и я не хочу тратить на нее драгоценное время нашего общения… Если бы знала она, как на самом деле, можно сказать, впритирку к критическим границам функционировали временны̀е механизмы наших судеб.
В конце ноября или в начале декабря я получил на почтамте письмо от Люси, уже упоминавшейся здесь. Где она признавалась, что приняла окончательное решение – быть со мной. И теперь ждет от меня хорошо обдуманного ответа. И удивлялась, что не получила от меня письма, которого ждала – в среду или в четверг.
Это ж надо! – как было принято приговаривать лет десять назад. Не мог милый мой человек, которого мы тут называем Люсей, получить от меня ничего ни в среду, ни в четверг. Потому что, видимо, в понедельник передо мной в минутном своем явлении возникла «Галка, наша внештатница» и сбрызнула живой водой эту мою недавнюю веру: есть и другое. А совсем вскорости, «не обдумывая все очень хорошо», в какие-то считанные секунды я бросился в это «другое» как в иную жизнь, конечно, при этом помня и прежнюю – но в каких-то плоских черно-белых образах. К ним невозможно было возвратиться.
Когда я объяснял маме и отцу свой этот поворот судьбы, я им, оказывается, сказал как трезво и глубоко копающий индивид: «У меня хватило ума по достоинству оценить эту прекрасную женщину». Золотые мои, самые бесценные человеки, мои мама и папа, естественно развесили уши перед своим умным сыночком и хорошенько усвоили эту судьбоносную фразу. Когда через три года наконец познакомились с Галей, то, будучи покоренными ее обаянием, счастливые, они вспомнили ее. Галя просияла при этом и с должным уважением посмотрела на меня. В одном из наших последних в жизни разговоров она вспомнила этот эпизод!
Я один знал, что никакого ума тогда у меня не было. Одна вера. И, может быть, все те же шелопутство и дурачество, в общем-то не видные наблюдателю со стороны. Всех лучше на свете меня знала Галя, и вот она-то не раз упрекала меня, и в устной речи, и письменно, в легкомыслии. Наверное, тут она как раз не ошибалась. Но я думаю, именно этот мой недостаток (или достоинство?) спасали нас обоих в некоторые нелегкие моменты.
А между тем, персонаж сюжета, кого я обозначил именем Люся, вновь появился в этой фабуле спустя двенадать лет. Я мог бы проигнорировать эти страницы из записной книжки своей жизни, но нельзя. Эти страницы небезупречны, и у меня сегодня скребет на сердце, когда их вспоминаю.
Мы уже жили в Москве почти три года, когда вдруг мне пришло письмо от нее, от Люси. Оно у меня не сохранилось. Но очевидно я на него ответил не слишком деликатно.
Ну, вот, письмо как письмо. Можно отвечать, можно нет. Даже лучше не отвечать – зачем множить лишние сущности? Я привел выдержки из него, так сказать, для ввода в ситуацию.
И вот теперь я думаю. Думаю: почему я не послал ответа? Не мог найти «хоть одну фразу» матерый журналюга? Не верю. Не верю и в то, что тогда не смог понять: это письмо не должно остаться без какого-то ответа. Уже, наверно, лет пятьдесят на вопрос, какое отрицательное человеческое качество я не прощаю, отвечаю одно: вероломство. До слез жаль любого, кто был уверен в чем-то или в ком-то как в себе, но в миг, когда решил опереться на это что-то или кого-то, вдруг обнаружил пустое место и сорвался в пропасть. Молчание в ответ на это письмо – то же вероломство, даже чисто лексически, по словообразованию. Была вера – не в меня, а в какие-то светлые материи, оказавшиеся в сознании женщины связанными с восприятием моей персоны. Хотел я этого или не хотел, но в данном случае от моего поведения зависела судьба этих материй в понятии человека – конкретного, знаемого мной. И что же? Нет ответа – и «погас тот луч». Да, слом веры.
Разве я этого не понимал?
Конечно, могу сказать: у меня самого тогда был нелегкий период – по чисто внешним обстоятельствам.
…После ухода из жизни Гали, писательницы Галины Щербаковой, я естественно взял за труд подготовку к изданию того, что при жизни не обнародовала она. И был поражен удивительным по проницательности ответом редактора издательства «Эксмо» Юлии Качалкиной на представленную очередную новую книгу: «То, как вы составили книгу, какое предпослали ей предисловие и каким снабдили послесловием, говорит о том, что вы ведете с автором непрерывный и очень вдумчивый диалог, беседу»…
На самом деле она выразила словами то, что я лишь чувствовал, ощущал. И этот диалог, который не кончается, начался с моей в общем-то бытовой фразы, однако же выношенной в душе: «С завтрашнего дня ты больше не идешь в свою паршивую редакцию» (слово «паршивая» – дань моде выразиться как-нибудь поэмоциональней; на самом деле «контора» была не хуже других). Приняв решение – стать Галине писателем, – мы навалили на себя многолетний груз риска. Ни у нее, ни у меня при этом не было и тени мальчишества типа: не получится – так и не очень-то хотелось. Мы не говорили об этом, но знали: цена выигрыша – судьба, проигрыша – тоже.
В те дни и пришло последнее письмо от Люси. И разве я не мог сказать: мне не до ответа на него!
Но себя-то не обманешь. Не это было причиной.
Мне было дискомфортно получать корреспонденцию втайне от Гали. И я не был уверен, что все обойдется одним, последним письмом. Казалось бы, раскрой всю «интригу» жене – и действуй вольготно. Чего бояться? Ведь за спиной у нас уже были серьезные разногласия, скажем, из-за разного нашего отношения к каким-то людям. Слава Богу, научились терпимости к этой разности – без ущерба собственным отношениям.
Но тут был иной случай, я инстинктивно опасался некоей неуправляемой рассудком реакции. Я один, наверно, знал, как ревнива Галина. Никогда ее ревность не выражалась в попреках, укоризнах, тем более в скандалах. Застигнутое такой невзгодой, ее всегда живое, подвижное, готовое улыбнуться лицо каменно замирало – и бледнело. Эта необычайная бледность всегда смугловатой кожи каждый раз приводила меня в панику, если не сказать в жуть. Я ее боялся в тысячу раз больше, чем пресловутых женских слез.
С точки зрения любого непредвзятого человека, в той ситуации не было причины для ревности. Дела давно минувших дней, в конце концов, положение победительницы в чисто женском соперничестве (которого вообще-то для нее и не было)…
Но вы не знали мою Галю. Своевольное, я бы сказал, вольнодумное воображение сочинительницы рисовало пугающие ее картины как прошлого, так и грядущего.
К вопросу о грядущем. Еще много лет назад Галина на полном серьезе задавалась вопросом, как я буду жить, когда ее не будет. От уверений в том, что у меня есть неплохие шансы покинуть эту бренную землю пораньше, отмахивалась как от очевидной глупости и не слишком-то была убеждена в моей благопристойности без ее хозяйского глаза.
В разные годы она написала две прозаические вариации на тему прирожденной мужской ветрености, проявляющейся в драматических обстоятельствах. Вот зачины этих рассказов.
«Жена умерла так неожиданно и сразу, что ни осознать, ни почувствовать горе Николай Крутиков не успел. В понедельник утром перед работой она замочила в тазике его майки, днем на службе у нее случилось «это», во вторник была беготня со всеми похоронно-бюрократическими процедурами, в среду жену похоронили, а вечером он обнаружил в тазике замоченные майки» («Сентиментальный потоп»).
«Владимир Иванович сделал все как надо. И поминки в приличном кафе, и хороший черный камень на могилу, и портрет.
…Портрет на черном камне был тот, где Лиза улыбалась так, как умела только она, радостно и доверчиво, при жизни он это называл – «от дури». («Перезагруз»).
У двух разных вдовцов были свои разнообразные обстоятельства, но… так или иначе и тот, и другой довольно скоро в «кассе вокзала» попросили билет, как сказано в общеизвестной песне, до «города, в котором тепло». Там у каждого из них, кроме оставленного навсегда детства, еще был объект юношеской любви, окончившейся, увы, ничем. И вот, спустя многие годы, мужики, оставшиеся в собственной памяти мальчишками, делают еще одну попытку все же осуществить младые, когда-то обманувшие мечтания.
«…Но Тоня, Тоня, Тоня…
Это ж вам не какая-нибудь украинка, которой нужна прописка. Это почти свой человек. Это, можно сказать, любовь, положенная в морозильник. Теперь ее надо оттуда вынуть, чтоб оттаяла». («Сентиментальный потоп»).
«…Он заберет ее в Москву, у него двухкомнатная квартира, а дочь уже живет отдельно. Он скажет, что это их шанс начать сначала, подумаешь – полтинник лет. Они будут жить чисто…, а ночью горячо, до крика. …Он шел и мысленно обнимал ее, маленькую, пухленькую, мягонькую, от нее пахло козьим молоком и духами «Кармен». Она их обожала». («Перезагруз»).
И, между прочим, Николай Крутиков забрал эту Тоню, «почти своего человека». И началось…
«-…Неудобная у тебя кровать. Я совсем не сплю.
– А у меня изжога от твоих голубцов.
– Не мои – магазинные.
– Магазинные? Ну, ты даешь! Чего ж это мы едим магазинные? Капусты, что ли, нет? Или там – начинки?
– Три дня нигде нет капусты.
– Странно…
– Не веришь, что ли?..
Тошно им было обоим. От неумения сблизиться, понять друг друга. И пришла мысль, что совершили они оба ошибку». («Сентиментальный потоп»).
И только уже в момент состоявшегося разрыва нежданно случившийся потоп, жесткая коммунальная стихия совершила коммуникативное чудо.
«Было так страшно, что они в отчаянии сели рядом на стоящую в воде кровать, потому что ноги их не держали. Было ободрано и – тихо, тихо… И в этой тишине они вдруг услышали друг друга, потому что оба были славные, хорошие, оглохшие в шуме люди.
– А я все равно хотел обои менять, – сказал Николай. – Ты какие хочешь?
– Мне все равно, – сказала Тоня. – Я только не люблю, когда салатовые.
Бесплатно
Читать книгу: «Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой»
Установите приложение, чтобы читать эту книгу бесплатно
О проекте
О подписке
Другие проекты
