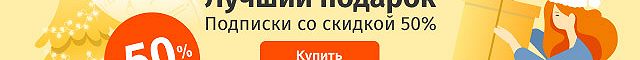
Старик сидел на приступке, курил сигарету и смотрел на улочку из семи домов и двух давно опустевших бараков. Из двух труб столбами вился дым, улетая к верхушкам сосен, а затем переламывался лёгким ветерком и уносился на юг. Когда-то на кордоне было два цеха. В одном точили черенки для лопат, грабель, мётел, в другом делали сани, гнули дуги и заготавливали клёпки для бочек. В середине девяностых годов промысел порушился, леспромхоз развалился, работники, у которых были «запасные аэродромы» в других местах, уехали. Остались, как говорил Ефим, две с половиной семьи: супруги Игнашкины с двумя детьми, старый рамщик Геннадий Максимович Трухин со своей старухой да сам Ефим.
Покурив, он поднялся со ступени и пошёл в дом. Прежде чем зайти в избу, потрогал стоящее в сенях на подведернике ведро – воды нет. Потрогал фляги – тоже пустые. Что-то недовольно пробурчал под растёкшийся блином нос, вернулся. На жердине, у крыльца, на вершине которой торчал уже опустевший скворечник с прибитой берёзовой веткой, была намотана красная тряпка. Старик снял с неё две завязки, аккуратно положил в карман и развернул флаг, сделанный из старой наволочки, потянул верёвочку – и флаг полез к скворечнику, нехотя встрепенулся и затрепетал на ветру.
Ефим Егорович вернулся в сени, за чуланом набрал по счёту беремя поленьев – ровно пять, и пошёл в избу. Сбросил их на прибитый к полу жестяной половичок, придвинул к голландке коротконогую табуретку, сел, опираясь на палку. Придвинул мятое ведро, совком выгреб из подпечка золу с угольками и стал укладывать в хайло поленья: одно поперёк, остальные на него. Смял в комок старую газету, подсунул её под поленья и поджёг спичкой. Огонь нехотя облизал дерево и перекинулся на поленья, разгораясь всё жарче и жарче, и скоро костёр затрещал. Дым сначала полез в избу, потом свернулся сизым клубком и нехотя потянулся в ворон. Пламя загудело. Старик палкой стал потихоньку закрывать задвижку до тех пор, пока пламя не успокоилось, затем закрыл дверцу. Так-то оно лучше, теперь жар не вылетит в трубу вместе с дымом, а начнёт делать свою главную работу – калить кирпичи, которые и наполнят избу уютным теплом и смоляным духом.
Старик поднялся с хрустом в коленях, подошёл к отрывному численнику, над которым висел красочный портрет святого Серафима Саровского, вырезанный из какого-то журнала, оторвал от похудевшего календаря листок. Сегодня 29 октября. Число было обведено красным кружком от фломастера. Значит, сегодня праздник, его личный праздник. Даже не праздник, а второй день рождения, когда он в этот день сорок первого года вместе со своими фронтовыми товарищами чудом избежал плена и расстрела: и от фашистов, и от своих. А ведь потом были и третий, и четвёртый дни рождения.
Снаружи послышался звук мотора. Ага, подъехал его помощник, Игнашкин Слава. Золотой парень: работящий, приветливый и вежливый, мастеровитый. Если бы не он… Когда леспромхоз развалился, и все, кто жил на кордоне, стали отсюда «сваливать» в поисках лучшей доли, Вячеслав сказал родителям: «Нет, я не поеду, здесь останусь. Что я буду делать в городе – по квартирам скитаться? А тут я в своём доме». Мать с отцом долго уговаривали, обещая подыскать ему и его жене, Зое, хорошую работу, но Слава стоял насмерть, как сталинградец. Жена тоже по ночам начала подшёптывать: мол, давай уедем, на что муж ей ответил: «Останемся здесь. У нас двое короедов, воспитывай их, дом содержи, а моё дело деньги зарабатывать. Или я не мужик!» Так и остался на безымянном кордоне под номером три, служил сторожем за три тысячи рублей в месяц. Сначала Вячеслав хотел разводить кур, но потом, подумав, отступился от своей задумки. Куда девать кур и яйцо, если этими продуктами сейчас все магазины и рынки завалены. Построил две теплицы, отапливаемые печурками, стал выращивать на продажу зелёный лук, ранние огурцы и помидоры, которые на рынке нарасхват брали.
Нужна была техника. Слава пошарил по брошенным домам, по свалкам позади цехов и «сотворил» из металлолома громозека, как он назвал свою чудо-машину. Собран был этот громозек так: двигатель, шасси и коробка передач от мини-трактора, кузов от старого мотороллера «Муравья», кабина от «Москвича 402», колёса от заброшенных в соседнем колхозе сеялок. Без глушителя этот трактор трещал так, что закладывало уши. Наверно, потому и получил он прозвище громозека. А затем от полученных доходов купил Слава подержанную «семёрку» -пикап.
…Дверь отворилась, и в избу вошёл парень лет тридцати: в фуфайке, в кирзовых сапогах и треухе, уши которого были завязаны сзади.
– Здорово, дядя Ефим.
– Здравствуй, Слава. Проходи.
– Да некогда мне рассиживаться-то, дядя Ефим. Клиентура ждёт. Мне сегодня ещё две ходки надо сделать, – охотно делился Слава своими заботами. – Тут один куркуль из города заказал мне пять кубов дровишек для своей баньки. Да не каких-нибудь, а черёмуховых, ольховых, кленовых, чтоб для приятного духу, значит. Хорошие деньги обещал.
– И где же ты столько возьмёшь, лес-то рубить не жалко?
– Я ж не изверг, дядя Ефим. После прошлогоднего ледяного дождя в лесу столько дров наломало, что только не ленись – подбирай. Раньше хоть лесники были, санитарную рубку делали, а сейчас всё гниёт, преет, и никому до этого никакого дела нет. А я гляжу – ты свой флаг бедствия вывесил, – продолжал Слава. – Думаю, надо заехать, узнать. Ты, дядя Ефим, не стесняйся, говори, что надо.
– Да вот, вода у меня закончилась, сынок.
– Ну, это разве беда! – воскликнул Слава. – Сейчас же привезу – делов-то на плевок. Я на громезеке мигом домчу. Фляги-то хватит?
– Хватит, хватит. Куда мне её, не в бассейн же наливать: побриться, умыться, чайку вскипятить, супешку сварить.
– Хорошо, дядя Ефим.
Парень развернулся, чтобы уходить, а Ефим Егорович вслед крикнул:
– Да, Слава, вечером-то у тебя время будет?
– А что?
– Вечером зашёл бы, посидим, покалякаем.
– Ага, понятно, – улыбнулся Слава. – Опять у тебя день рождения, дядя Ефим?
– Опять, сынок.
– Сейчас прикину. – Слава несколько секунд молчал, затем заморгал глазами, словно силился чего-то вспомнить. Оживился. – Так, сегодня же пятница! Значит, так. Сегодня расклад такой будет: сначала баня – Зоя к вечеру истопит, а потом уж и день рождения твой справим.
Слава вышел, загремел флягой, протопал по гибким сенным половицам, уехал. Золотой парень Слава! Всё-то у него легко, как бы шутя, вроде бы и не устаёт никогда. Вот, с водой, например. Раньше была водокачка, небольшая, но на посёлок хватало, а после она пришла в негодность, какие-то ухари за ночь разобрали её на металлолом и увезли. Слава горевал недолго: куда-то съездил, привёз трубу с фильтрами, пробурил на своём огороде скважину, поставил электронасос – и вот она, водичка. Слава с усмешкой пояснял:
– А кого сейчас дожидаться: власти нет, чужой дядя к тебе не придёт. А руки-то, вот они, всегда со мной. – И показывал свои мозолистые руки.
* * *
Сам Ефим был не местный, – судьба сюда закинула. И где он только не перебывал! Эх, судьба-судьбинушка, отчего же ты одних жалеешь, за плечики водишь, целуешь, ласкаешь, а других норовишь всё пинком под зад. Ефим, вспомнив шестидесятые годы, тяжело вздохнул. Тогда он со своей женой, Галиной, жил на южном Урале, шоферил в совхозе, растил троих детей и не подозревал, что совсем рядом бродит его беда.
Как-то раз во время уборочной страды бригадир попросил отвезти полторы тонны зерновых отходов своему родственнику в соседнюю деревню. Дело было уже к вечеру, Ефим устал и сначала отказал своему начальнику, ссылаясь на позднее время, на усталость и на то, что завтра снова рано вставать – страда ведь. А нужно было эти отходы ещё погрузить, отвезти, приехать назад, поставить грузовик в гараж. В общем, Ефим отнекивался, как только мог. Но бригадир так улещивал шофёра, – обещался заплатить за рейс по полному двойному тарифу, да, мол, ещё и родственники не поскупятся, – что Ефим не устоял. Правда, из осторожности попросил выписать путёвку и накладную на груз, чтобы всё по закону было. В те годы законы были строгие: за расхищение социалистической собственности давали такие срока, словно за убийство.
Бригадир выписал и путёвку и накладную на груз – всё честь по чести. Никакого подвоха Ефим не почуял. Ну, отвёз, одним словом. Родственники бригадира ему даже зелёненькую, трояк, сунули, вяленого пудового сома в мешковину завернули – в благодарность. Эх, знал бы Ефим, каким боком ему выйдет эта благодарность! А этого сома он всю жизнь потом помнил. Да он бы тогда же свернул бы шею этому бригадиру, прямо на том месте, где тот его уговаривал пойти в этот треклятый рейс.
Прошла неделя. И вдруг заявляются к нему в дом милиционеры из района – двое. Оба при наганах. Один сержант милиции, а второй старший лейтенант. Вошли в избу, вежливо поздоровались:
– Здравствуйте.
В этот момент Ефим сидел как раз за столом – лапшу трескал. Перед этим рюмашку, как и положено после тяжёлого трудового дня, опрокинул. Буркнул в ответ, недовольный, что его отрывают от еды:
– Здравствуйте. А вы не заблудились?
– Да нет, Ефим Егорович, вряд ли. Ведь это вы Шереметьев?
– Ну, я. А в чём дело, товарищ старший лейтенант?
В этот момент со двора Галина вернулась, встревожилась:
– А что здесь происходит? – Не получив ответа от непрошенных гостей, повернула голову к мужу. – Ефим, может, ты скажешь.
– Да я и сам ничего не понимаю. Ты иди с ребятишками в светличку, мы тут сами разберёмся. Не волнуйся, Галя. Товарищи, видать, дверью ошиблись.
Когда ребятишки с женой затворились в соседней комнате, старлей сел без разрешения на стул, забросил ногу на ногу, обтянутые в синие галифе и сварливо ответил:
– Нет, Ефим Егорович, мы не ошиблись, органы просто так не приходят.
– Разобраться бы надо.
– Правильно, вот и давайте разберёмся. Скажите, ТВ 07 29, это номер вашей машины?
– Так точно, моей.
– А вы отвозили груз неделю назад в соседнюю деревню?
– Было такое, отвозил отходы.
– Отходы, говоришь.
– Да, отходы. Да вы можете по накладной проверить. В ней всё написано: груз, вес, подпись бригадира.
– Нет никакой накладной, проверили уже.
– Как, нет!
– А так, и нет.
– А вы бригадира спросите, он скажет.
– Спрашивали уже. Он утверждает, что никуда вас не посылал, никакую накладную не выписывал и путёвку на рейс не давал.
– Да как же так! Ведь врёт он, врёт самым наглым образом! – закричал в отчаянии Ефим. – Вы в бухгалтерии поищите, там они, бумажки-то, должны быть. Туда я их сдавал.
– И в бухгалтерии были, нет их там.
Ефим вспомнил: главным бухгалтером совхоза была жена бригадира, а учётчицей его племянница. Ефим охнул внутренним голосом, завопил. Только сейчас он всем нутром своим почуял, что дело принимает серьёзный оборот. Сердце захолонуло, по телу пробежала дрожь. Мысли скакали блохами. Ненужные какие-то, посторонние: сена так и не накосил, изгородь падает, баню не доделал, дров не привёз – всё некогда. Сейчас он старался припомнить, чем насолил бригадиру – ничем будто. За что же он так его подставил?
А старлей, пристально наблюдая за изменениями на лице Ефима, продолжал:
– За хищение государственной собственности в особо крупном размере, Ефим Егорович, знаете, что полагается? Зерна в государстве и так не хватает, а тут таким хищническим способом. Если каждый даже по горсти сворует, и то… А тут целый грузовик. Это надо же до такого додуматься: за трёшку да за сома.
– Подождите, подождите, какое зерно. Я же отходы отвозил!
– Да не отходы, а самое настоящее зерно.
– Вы хозяев спросите, они подтвердят! – цеплялся за последнюю щепочку Ефим. – Они-то не соврут.
– Конечно, не соврут, они уже всё рассказали. Зерно, пшеничку им привезли. Они своё тоже получат – не сомневайтесь. Так что, гражданин Шереметьев, собирайтесь, поедете с нами. Граф, понимаешь! – усмехнулся следователь.
Деревенская кличка «граф» к Ефиму прилепилась с тех пор, когда в их село как-то приезжал лектор из общества «Знание», который читал лекцию про старый режим. В ней-то он и упомянул среди прочих и имя графа Шереметева, а кто-то из зала выкрикнул: «А у нас и свой граф есть, Ефимка Шереметьев». Народ посмеялся просто, а кличка так и прилипла.
Осудили Ефима на шесть лет, как говорится, на полную катушку. Дали бы, наверно, меньше, если бы судили в районном суде. Но суд сделали выездным, показательным, в его родном селе. Заседание проходило в клубе, прямо на сцене, где стоял длинный стол с накинутой на него красной скатертью. За ним восседал судья, женщина лет сорока с сурово поджатыми губами и в траурном костюме, двое народных заседателей, слева от них за столиком устроилась секретарь судья, миловидная девушка со светлыми кудрями, а справа, на скамейке, сам Ефим, которого караулил милиционер. Всё честь по чести – как заядлого преступника.
Всё бы ничего, если бы не дополнение к приговору: лишить его, Ефима, всех фронтовых наград. Это было уж слишком: как, его, фронтовика, который за четыре года войны прошёл боевой путь от Москвы до Прибалтики, лишить заслуженных наград! Как он тогда кричал, как он проклинал и судью, и заседателей, и ещё кого-то – он уж и сам не помнил, кого, так был велик в нём гнев. Стыдно было перед односельчанами, ведь его опозорили перед народом ни за что, ни про что. Он видел, как в том же зале сидел бригадир, который выступал свидетелем, и щерился – сам-то он сухим из воды вылез. Вот гад ползучий!
Когда Ефима уводили в наручниках, к нему со слезами бросилась жена:
– Ефим, Ефимушка, что же ты наделал-то! Как же я теперь с тремя детьми? Что я делать буду, как кормить, ростить!
Милиционеры её отталкивали от него, да так, что она в грязь упала. Он цыкнул на них:
– Что вы делаете, сволочи?! Видите – баба не в себе.
– Не положено, – ответил милиционер.
– А по-людски вы можете обращаться.
– Иди-иди, защитник нашёлся. Раньше надо было думать своей тупой головой.
Да его самого так турнули в спину, что он шагов пятнадцать по инерции кентавром проскакал, чтобы удержать равновесие да самому не упасть в лужу. А дальше по накатанной: пересылка, этап, зона. Тайгу не валил – бог миловал, определили на лесовоз. Галина, спасибо ей, письмами засыпала, как солдата новобранца. Зеки сначала над этим смеялись, а потом завидовать стали: чуть ли не каждый день по письму получал, и выходило, что он будто и села своего не покидал. Галина писала обо всём. Правды не утаишь, народ прознал, что бригадир на самом деле с Ефимом сделал, житья ему не стало. Среди презрения жить в деревне, что среди своры собак: если не одна, так другая укусит, если не за ногу, так со спины. Собрал бригадир вещички и куда-то укатил с семьёй. Оно так: уральский народ хоть и суровый, но справедливый.
Директор совхоза, спасибо ему, семью Ефима не бросил, помогал, чем мог: то дровишек выпишет по бросовой цене, то муки, то поросёнка хворого, будто списанного. Ефим даже взревновал: уж не завела ли шашни его жёнушка с этим председателем. Подробно прописала Галина и про то, как его награды конфисковывали. Пришли двое: один из военкомата, другой из милиции, потребовали награды Ефима. Галина – в пузырь: не отдам, я им не хозяйка, распоряжаться не имею права, я не воевала, вот придёт, тогда и отбирайте. Так на неё так насели, что она от страха чуть под себя не наделала. Высыпала Галина на стол его награды, положила наградные удостоверения, Похвальные грамоты и благодарности от самого Верховного Главнокомандующего товарища Сталина, даже талоны к боевым наградам, за которые после войны полагались денежные выплаты, и по которым давным-давно никто ничего не платил.
Отобрали только награды: гвардейский значок, медали «За боевые заслуги», «За участие в Великой Отечественной войне», «За оборону Москвы». Грамоты и талоны оставили. А когда стали проверять по наградным удостоверениям, спрашивают:
– А где медаль «За отвагу»?
Галина руки в сторону:
– Не знаю, все здесь, в этой коробке были.
Одним словом, всё описали и забрали с собой. Конечно, к такому повороту событий Ефим был готов: если есть решение суда, так, будь уверен, власти всё исполнят. После этого известия он даже в больничку слёг.
Вышел Ефим из зоны досрочно, после четырёх лет отсидки. После шестьдесят пятого года, когда Сергей Сергеевич Смирнов начал поднимать правду о великой войне, – а день Победы не праздновали с 1946 года, потому что великий вождь и кормчий советского народа решил совместить его с Новым годом, – о фронтовиках вновь вспомнили и по Указу правительства реабилитировали.
Ефиму радоваться бы – свобода, долгожданная свобода, которой любой эек радуется, как новому дню рождения, а он затомился, заскучал, приболел тоской. Это заметил его сосед по нарам, Иван Курягин, с которым они сблизились за эти годы, как можно сблизиться с чужим человеком, разделяющим одно горе и одни радости. Иван сидел, как он сам говорил, за убивство: приревновал жену и убил обоих: жену и её соблазнителя. Хотя пойми после их смерти, кто из них был соблазнителем: она или любовник. Вот Иван и спрашивает:
– Что с тобой, Ефим? Тебе бы радоваться – на свободу скоро, а ты как будто и не рад. Головёшкой ходишь.
– По свободе-то я рад, Ваня. А вот как подумаю, что мне в своё село возвращаться придётся, на душе тошно становится. Как я людям в глаза смотреть буду, ведь меня все там за вора почитают.
– Плюнь на это, Ефим, и разотри – мокрое пятно будет. Меня вот расстрелять за убивство грозились – пронесло, а я и этому рад – живой. Вон, солнышко светит, птички поют, люди грызутся – весело, вольно. Тайгу валю – и то хорошо. А чем бы я на воле занимался? Тоже тайгу бы валил, потому что я с детства, по батьке моему, лесоруб. И какая, ответь мне, разница?
– Эх, Ваня, сам себе я не виноватый. А люди? Людям не объяснишь – будут в харю тыкать: ты такой, да ты сякой. Нет, Ваня, не смогу я дома больше жить, уеду куда-нибудь к чёртовой матери.
– Куда ты уедешь?
– Да хоть на Камчатку. Там хоть и зверья больше, да они ласковее и справедливее людей. Если зверь загрызть тебя хочет, так понятно почему – голодный. А если он сыт, так стороной обходит. А люди… Люди – это твари поганые.
Иван вздохнул и протянул:
– Страсти.
– Чего страсти?
– Людей страсти губят, – пояснил Курягин. – У зверья этого нет. У них гон прошёл – и всё. – Иван оживился. – Я тебе вот что скажу: если надумаешь перебираться, поезжай на мою родину, на Волгу. Там хоть и нет таких лесов, как в тайге, но работа найдётся. В леспромхозе, где я работал, хороший директор, душа-человек, Виктор Семёнович. А ты лесовозчик вон какой опытный, по полторы нормы даёшь, у тебя за это одни поощрения. Да он тебя целовать будет. У тебя свой дом или что?
О проекте
О подписке
Другие проекты
