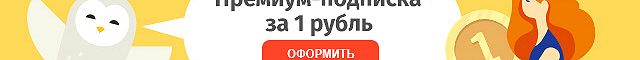
– А вы помните, как десять лет назад нам говорили, что если к власти придут богатые, то они воровать не будут, ибо им незачем? А потом говорили, что чиновникам надо платить хорошо, чтобы они не крали и не брали взяток. А сегодня уже говорят, что борьба с коррупцией разрушит государство! Доколе? А? Доколе, я вас спрашиваю!
Уполномоченный представитель с торжествующим видом свысока оглядывает всех присутствующих и вдруг осознаёт, что попал не в ту лавку, в которой ему следовало сегодня оказаться, а если и в ту, то или слишком рано, или чрезмерно поздно. Но быстро покинуть халупку вновь прибывшему не дают: один из державных служащих загораживает выход, словно рискуя своим накачанным телом (и будучи точно уверенным, что не жизнью). Попался, который кусался!
– Доколе?.. Доколе?.. Доколе?.. – засуетившись и сникнув, бормочет уполномоченный. – Выпустите меня! Мне надо идти! У меня срочные дела! Жена, дети – семью кормить надо!
– Молчать! Мне никто ничего подобного ни позавчера, ни вчера, ни сегодня не говорил! Ты кто такой? Откуда взялся? – хочется закричать Филиппу, принявшему все сентенции о воровстве, взятках, коррупции, чиновниках и разрушении государства на свой личный расчётный счёт, но у него как будто пересыхает горло и чудится, что отсыхает язык (однако ничего страшного с языком не случается).
Араб может лишь формулировать мысли, но не исторгать из себя звуки:
«М-да! Совсем далёкое будущее! Это, наверное, эпоха через две тысячи лет после того, как я стал… стану… стал Господом Богом… Иисусом… нет, Богом под собственным именем! Богом Филиппом Арабом Первым!.. Правильно я подумал: какая-то тут в округе совсем незнакомая и суперуникальная цивилизация. Господи Иисусе, за что же я такой чести-то удостоен? Боже, ты когда-то помог мне помазаться на… ну, пусть на царство, так верни своего помазанники и любимца в моё время и на мой трон, даже если он и не автоматон!.. И чьё же это правление? Я понимаю, что господствует в этой эре мой прямой потомок по мужской линии. Но через сколько же столетий и поколений?»
Работники силовой державной службы тем временем удаляются… вместе с сундуком из угла (не догадываясь, что это ящик Пандоры), с хозяином лавки, покупателем и даже с уполномоченным представителем всего римского народа. У нечестивой, пойманной с поличным троицы руки заломлены за спину до выверта суставов. Торговец при этом со стонами повторяет, как заведённый:
– Я же говорил, а мне не поверили, что до гроба… до гроба… до гроба… Я же говорил, а мне не поверили, что до гроба… до гроба… до гроба… Я же говорил, а мне не поверили, что до гроба… до гроба… до гроба… Прорицаю: всех нас когда-нибудь ждёт могильная плита: и тех несчастных, кого сейчас тащут, и тех счастливцев, кто волочёт!
И тут, оставшись в лавке один (скулящая собака, прихрамывая на все лапы, выскочила вслед за хозяином), Филипп слышит, как на улице раздаются возгласы:
– Ave Augustus! Да здравствует император! Ave Augustus!
«Боги посылают мне отгадку! Надо взглянуть на моего потомка!» – оживляется в думах Филипп и своими двумя, не касаясь, однако, земли, покидает торговую халупку. Словно плывёт в воздухе, аки посуху. А словно и не словно.
На улицах в ликовании и экстазе беснуются людские толпы. Сегодня им позволяют побесноваться, повыпускать пар, повыплёскивать энергию и даже пораздавливать друг друга всмятку (всю массу прижмут к ногтю и погасят позже, когда наступит ночь и она потеряет пассионарность).
Совсем ничего не видно, кроме спин, голых и гривастых затылков или же перекошенных бритых и бородатых лиц, снова и снова без умолку вопиющих, будто бы поющих:
– Ave Augustus! Да здравствует император! Ave Augustus! Многия лета! Славься, наш римский царь!
Этот рёв стоит в ушах… бесконечной Вселенной.
Филипп как будто огорчается: «Мне про многия лета не кричали… и не пели… У них иная жизнь, у них иной напев. Стопудово совсем далёкое грядущее! А я пойду один к неведомым пределам, душой бунтующей навеки присмирев…»
Он вспоминает, что способен взмывать ввысь и тут же пользуется своим умением, превратившимся в навык.
Витая, окликает императора-потомка:
– Эй, правитель, подними голову к небу! Смело взгляни снизу в лицо своего великого… Величайшего предка, после смерти ставшего Богом… Иисусом Христом… типун мне на язык, конечно! Да задери же ты голову, Фавн… эээ… чёрт тебя подери! Мне сверху видно всё, ты так и знай!
Голова окликнутого, словно под гипнозом, резко задирается вверх. Значит, слышит, курилка! Теперь Филипп видит истинное лицо нового владыки империи, вглядывается в его мимику и черты, которые оказываются до боли знакомыми. Да это не лицо, а мурло! Мурло мещанина, вылезшее из-за спины Римской империи! Ряха! Морда! Гнусная и подлая физиономия!
Араба обуяет ужас. Да и не просто ужас, а ужас-ужас-ужас. Ибо в роли императора одного из грядущих «тысячелетий» величаво, будто пава, выступает Гай Мессий Квинт Деций, который уже не просто Гай Мессий Квинт Деций, бывший некогда префектом Рима и претория, а август Гай Мессий Квинт Траян Деций. Пусть и не тот великий Марк Ульпий Нерва Траян конца I – начала II веков нашей эры, однако Траян из III столетия, дьявол во плоти и… чёрт его побери! Будет совсем кошмаром, если вдруг очнёшься, а на твоей руке – гипс!
Траян! Траян! Траян! Как много в этих звуках для сердца римского слилось!
Это же знак Божий, чуть не задыхается от озарения во сне император.
Это грядущее, которое… совсем рядышком. Вот оно – его, как Деция, можно потрогать руками. Не просто притронуться, а ощупать. Щупать обеими пятернями столько, сколько хочешь и с любой силой. И оно, это грядущее, Филиппу совсем не нраву. Его ещё можно подправить, скорректировать, изменить, пройтись по нему опасной бритвой, в конце концов заявив: «Всё равно ничего не получилось!»
Однако…
*****
…Император дёрнулся, нахлебался воды и, рефлекторно вскакивая на ноги и отплёвываясь, проснулся. Бешено вертя вокруг головой, он пришёл в себя и понял, что всего-то третий день в Риме, что кошмары – это иллюзия, миражи (пусть это и наша жизнь) и что сам он сейчас находится в частных термах Понтия (не Пилата). Однако возбуждение прошло не сразу: мужчину некоторое время потрясывало и потряхивало то мелкой, то крупной дрожью.
«Ещё не поздно всё изменить! – подумал август, вспоминая призрак Деция Траяна, но тут же откатил назад. – Так вроде и менять нечего… Ничего же не случилось… Просто дурной сон… А верные люди мне наяву всегда потребны. Прочь иллюзии, аллюзии, миражи, галлюцинации и фантазии! Прочь повторы и тавтологии, плеоназмы и речевые избыточности! Остановись, воображенье, ты ужасно! Я вытащил Деция из грязи… из дерьма… в князи… и он будет благодарен мне по гроб жизни… своей, разумеется. Я-то – Бог! И буду жить вечно: хоть на земле, хоть на небе, хоть в раю, хоть… нет… ад – это не для меня, это место уготовано для других. Для плохих людей, а я хороший…»
*****
Мужчина, опять принимая в ванне горизонтальное положение, непроизвольно застонал, словно от боли в зубах. Да так громко, что на этот раз в кальдарий шагнул хозяин терм, и, протягивая отдыхающему сшитые корешком пергаменты, трогательным и дрожащим от волнения голосом пролепетал:
– Вот книжка моих стихов. Прочтите. Вы в один миг поймёте, что у меня вселенская душа. Стихи у меня писаны на тему Господа нашего, единственного и неповторимого! Не чета всем нечестивым Богам Пантеона…
– О твоей душе и виршах мне уже докладывали, – отмахнулся Филипп, у которого у самого душа была переполнена круче, чем любая чужая, даже патриархова вселенская. – О каком Господе речь?
– Хм… а говорите, что докладывали… не похоже на это… далеко от истины… ещё дальше от правды… – путаясь в формулировках, смущённо забубнил сенатор Понтий. – Хм… Разве Оталиция вам не сообщала?
– Сообщала! И не единожды! Я просто уточнял… для верности. А ты как всуе смеешь вслух упоминать мою благоверную и привлекать её дух к нашему разговору? Это недопустимый полемический приём!
– О простите меня, мой повелитель, я больше так не буду… Это было в первый и в последний раз!
– Станешь паинькой?
– Не сомневайтесь!
– Ты искренен?
– А то!
– Верю! В первый и в последний раз!
– Простите, ради Бога! Я люблю и не просто люблю, а обожаю сильную руку! – Понтий бухнулся ниц перед ванной, в которой лежал август. Явь сливается со сном, а сон – с явью.
Но сейчас явно была явь, и Филипп это осознавал:
– Так и быть, я прощаю тебя! Сам Господь прощает тебя! Поди сейчас вон и больше не греши!
– А мои стихи?
– Что «стихи»? Какие стихи?.. Ах, стихи!.. Продолжай писать свои вирши, если они будут не в пику мне, а во славу меня!
– Они во славу Бога.
– Значит, и меня, и моего отца – тоже! Пиши дальше и приноси мне для прочтения. Сам я, конечно, читать их не стану. Будешь декламировать мне вслух. Только, Боже тебя упаси, не здесь и не сейчас!
«Я и зрелище в Колизее с вашими викториями… грядущими… пусть даже их никогда не случится, смог бы в рифму как режиссёр поставить. Я любое поражение способен в массовом сознании превратить в победу, а падение со свободным ускорением (пусть это всего-навсего ускорение свободного падения) – во взлёт баллистического снаряда… ну, пусть снаряда из баллисты. Я и как сценарист выступить сумел бы, самолично и складно описав все события! Я Пушкин… я Вергилий наших дней!» – Понтий хотел было развёрнуто сообщить о своих талантах и гениальности (собственно, ради этого он и явился), но, что разговор закончен, император недвусмысленно дал понять такими простыми народными словами:
– Мне пора в следующую комнату! Чтоб воду в ступе не толочь, не заставляй мою душу страдать! Душа обязана трудиться: и день, и ночь, и день и ночь…
Сказав это, Филипп встал в ванне во весь рост, чутко прислушиваясь к шуршанию стекающей с него воды и ощущая на теле от этих струек приятную щекотку. Но он не засмеялся, а тем паче не заржал: «Смех без причины – признак дурачины!»
Понтий, смущённый величием и масштабом личности своего императора, остался в одиночестве потеть в кальдарии, хотя изначально в его планах этого не значилось. Подумал при этом: «Как же я обожаю сильную руку!»
О проекте
О подписке
Другие проекты