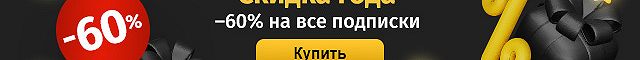
Жан Поль Сартр
Экзистенциализм – это гуманизм
Серия «Эксклюзивная классика»
Jean-Paul Sartre
L’EXISTENTIALISME EST UN HUMANISME
QU’EST-CE QUE LA LITTERATURE?
Перевод с французского
Н. Полторацкой («Что такое литература?»),
Т. Чугуновой («Экзистенциализм – это гуманизм»)
Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard.
© Editions Gallimard, Paris, 1996, 1948 et 2008
© Перевод. Н. Полторацкая, 2020
© Перевод. Т. Чугунова, 2024
© Издание на русском языке
AST Publishers, 2025
Экзистенциализм – это гуманизм
Лекция, прочитанная в Париже
29 октября 1945 г.
Мне бы хотелось защитить в своем выступлении экзистенциализм от ряда обращенных к нему упреков.
Прежде всего экзистенциализм упрекают в том, что он предлагает людям пребывать в квиетизме[1] отчаяния, то есть: раз ничто в этом мире не поддается разрешению, будто бы надо считать, что никакое действие невозможно; а также в том, что в конечном счете он ведет к созерцательной философии, а поскольку созерцание является роскошью, то оно возвращает нас в лоно буржуазной философии. К этому в основном сводятся упреки коммунистов.
С другой стороны, нас упрекают в том, что мы подчеркиваем мерзость человеческого существа, указываем повсюду на отвратительное, темное, порочное, и оставляем без внимания некоторое количество внушающих радость красот, светлую сторону человеческой натуры, например, если верить госпоже Мерсье, критика католического толка, мы забываем об улыбке ребенка. И те и другие упрекают нас в том, что мы оставляем за бортом человеческую солидарность, рассматриваем человека в его обособленности от других, по большей части по той причине, что отправной точкой для нас, как считают коммунисты, является чистая субъективность, то бишь картезианское я мыслю[2], то мгновение, когда человек настигает самого себя как человека в своем одиночестве, что может сделать нас неспособными вернуться к солидарности с людьми, находящимися вне «меня» и которых я не могу настичь через cogito.
А со стороны христиан в нас летят упреки в отрицании реальности и важности человеческих свершений, мол, убирая божьи заповеди и вечные ценности, мы не оставляем ничего, кроме произвольности поступков, и каждый может делать что хочет, и никто не способен со своей точки зрения судить воззрения и поступки других.
На эти-то различного рода упреки я и пытаюсь сегодня ответить, потому-то и назвал свой небольшой доклад: Экзистенциализм – это гуманизм. Многие удивятся тому, что речь здесь идет о гуманизме. Попытаемся разобраться, какой смысл мы вкладываем в это понятие. В любом случае с самого начала мы можем заявить, что понимаем под экзистенциализмом учение, которое делает человеческую жизнь возможной и которое утверждает: всякая истина и всякое действие предполагают определенную среду и человеческую субъективность. Главный упрек, который нам делается, как известно, состоит в том, что мы ставим акцент на дурной стороне человеческой жизни. Мне недавно рассказали об одной даме, которая, всякий раз нервически выругавшись, заявляет в качестве извинения: «Кажется, я превращаюсь в экзистенциалистку». В результате все некрасивое приравнивается к экзистенциализму; нас объявляют натуралистами, и если так оно и есть, можно лишь удивляться тому, что мы пугаем и возмущаем в гораздо большей степени, чем пугает и возмущает ныне натурализм как таковой. Тот, кого не коробит от такого романа Золя, как «Земля», испытывает отвращение, стоит ему взяться за экзистенциалистский роман; тот, кто привержен народной мудрости, – которая далеко не радостна, – считает нас явлением еще более печальным. Однако, что может быть более разочаровывающим, чем высказывания типа: «своя рубашка ближе к телу» или: «строгостью вернее ласки исправишь дурного человека»? Общие места, которые можно привести по этому поводу, известны, они всегда говорят об одном и том же: против власти не попрешь, не лезь на рожон, выше головы не прыгнешь, всякое действие, которое не вписывается в традицию, не более чем романтический порыв, всякая попытка, не опирающаяся на опыт, обречена на провал; а опыт между тем показывает: люди всегда скатываются вниз, и требуются крепкие опоры, чтобы удерживать их, не то наступит анархия. И тем не менее те же самые люди, которые твердят эти невеселые поговорки, всякий раз, как им показывают более-менее отталкивающий поступок, изрекают: «Как это свойственно человеку!»; те люди, которые упиваются этими грубыми побасенками, упрекают экзистенциализм в излишней мрачности, причем мрачности в такой степени, что я задаюсь вопросом, а не упрекают ли они его не за пессимизм, а скорее за оптимизм? А не лежит ли в основе испытываемого ими страха то, что учение, которое я намерен изложить вам, дает человеку возможность выбора? Дабы понять это, надлежит еще раз изучить интересующий нас вопрос в плане чисто философском. Что же такое экзистенциализм?
Большинство людей, которые используют это слово, оказались бы в затруднительном положении, попроси их дать определение, что это такое, поскольку сегодня, когда это слово стало модным, какого угодно музыканта или художника охотно объявляют экзистенциалистом. Один хроникер из «Кларте» подписывается Экзистенциалист; и по сути, это слово ныне стало означать нечто столь широкое и необъятное, что вовсе перестало что-либо означать. Кажется, что в отсутствие авангардного учения, подобного учению сюрреализма, люди, жадные до скандала и перемен, обращаются к этой философии, которая, впрочем, не способна им ничего дать в этом смысле; на самом деле, это наименее скандальное и наиболее строгое из учений; оно предназначено прежде всего для людей технического склада и философов. И при этом оно легко поддается определению. Однако кое-что усложняет понимание этого явления, поскольку имеется два рода экзистенциалистов: первые – христианского, католического толка, к которым я отношу Ясперса и Габриэля Марселя; вторые – атеистического толка, к которым следует отнести Хайдеггера, а также французских экзистенциалистов[3], как и меня самого. Их объединяет полагание того, что существование предшествует сущности, или, если хотите, что надобно отталкиваться от субъективного. Что же следует понимать под этим? Когда мы имеем дело с каким-нибудь предметом, изготовленным человеком, например, с книгой или разрезным ножом, мы понимаем: этот предмет был изготовлен мастеровым на основе некоего понятия; он руководствовался понятием о разрезном ноже и в то же время предварительным представлением о технической стороне дела, составляющей часть этого понятия, что, по сути, является способом изготовления. Так, разрезной нож – это предмет, который изготавливается определенным образом и в то же время обладает определенным предназначением, и невозможно представить себе человека, который взялся бы изготавливать разрезной нож, не имея понятия, для чего он нужен. Следовательно, мы вправе сказать, что в отношении разрезного ножа сущность, – то есть совокупность способов и средств, позволяющих его изготовить и определить, – предшествует существованию; таким образом, наличие данного ножа или данной книги предопределено. Тут мы имеем дело с техническим взглядом на мир, в котором изготовление предметов предшествует их существованию.
Когда мы представляем себе Господа Бога, Зиждителя, он уподобляется нами преимущественно мастеровому высшего порядка; и каково бы ни было учение, которое мы рассматриваем, – идет ли речь об учении, подобном доктрине Декарта или доктрине Лейбница, мы всегда допускаем, что воля в той или иной степени следует за замыслом, или, по крайней мере, сопутствует ему, и что Господь, когда он творит, точно знает, что именно он творит. Так, понятие о человеке, присущее Господу, можно сравнить с понятием о разрезном ноже в голове мастерового, и Господь творит человека, следуя определенным техническим меркам и определенному понятию, точно так же как ремесленник изготовляет разрезной нож, следуя определенным техническим меркам и определенному понятию. Отсюда вытекает, что в каждом отдельном человеке претворяется некое понятие, отвечающее божественному замыслу. В ХVIII веке философами-атеистами было устранено понятие Господа, но не мысль о том, что сущность предшествует существованию. Эту идею мы находим повсюду: у Дидро, у Вольтера и даже у Канта. Человек – обладатель человеческой природы; эта человеческая природа, которая есть понятие «человека», присуща всем людям, что означает, что всякий человек является частным случаем общего понятия о человеке; у Канта из этой всеобщности вытекает, что дикарь, естественный человек, как и городской житель, подлежат одному определению и обладают одними базовыми качествами[4]. И тут тоже сущность человека предшествует тому историческому существованию, которое мы встречаем в природе.
Атеистический экзистенциализм, представителем которого я являюсь, более последователен. Он утверждает, что, если Бога нет, имеется, по крайней мере, одно существо, у которого существование предшествует сущности; существо, которое существует до того, как может быть определено каким-либо понятием, и что это существо – человек, или, как говорит, Хайдеггер, человеческая реальность. Что означает в данном случае заявление о том, что существование предшествует сущности? Это означает, что сперва человек существует, встречается сам с собой, появляется в мире, а уж после определяет себя. Человек в том виде, в каком его мыслит экзистенциализм, если не определим, то потому, что сперва он ничего собой не представляет. Он будет чем-то только потом и будет таким, каким сделает себя. Таким образом, нет никакой человеческой природы, потому как нет Бога, который бы ее замыслил. Человек не только таков, каким себя мыслит, но и таков, каким хочет быть, а поскольку он себя замысливает после того, как началось его существование, таким, как он желает быть после этого порыва к существованию, человек не что иное, как то, что он из себя делает. Таков первый принцип экзистенциализма. Это и есть то, что называется субъективностью, которую нам вменяют в вину под этим самым названием. Но что мы хотим сказать этим, кроме того, что человек наделен большим достоинством, чем камень или стол? Ибо мы хотим сказать: человек прежде существует, то есть человек – это прежде то, что устремляется к будущему, и то, что осознает свое стремление к будущему. Человек прежде всего проект, который переживается им субъективно, а не мох, не плесень, не цветная капуста; до этого проекта ничто не существует; нет ничего на том небе, которое доступно уму[5], человек будет тем, чем наметил быть. Не тем, каким захочет. Ибо то, что мы подразумеваем обычно под хотением, это осознанное решение, которое для большинства из нас следует за тем, как человек сотворит что-то из себя. Я могу хотеть примкнуть к любой партии, написать книгу, жениться, но все это всего лишь проявление более первородного, более спонтанного выбора, чем тот, что именуется волей. Но если, и правда, существование предшествует сущности, человек ответственен за то, чем является. Стало быть, первой обязанностью экзистенциализма является вверить всего человека во власть того, чем он является, и возложить на него полную ответственность за свое бытие. И когда мы говорим, что человек ответственен за себя, это означает, что человек ответственен не только за свою индивидуальность, но и за всех людей. Есть два смысла у слова субъективность, и наши оппоненты играют на этом. Субъективность, с одной стороны, означает, что индивид сам себя выбирает, а с другой, – невозможность для человека преодолеть человеческую субъективность. Именно второй смысл является глубоким смыслом экзистенциализма. Когда мы говорим, что человек сам выбирает, чем ему быть, мы понимаем под этим, что каждый из нас выбирает себя, но этим же мы хотим сказать, что, выбирая себя, он выбирает всех людей. И впрямь нет ни одного нашего поступка, который бы, создавая из нас того человека, которым мы хотим быть, не создавал бы одновременно образ человека, каким, по нашему мнению, он должен быть. Выбирать, чем быть, означает утверждать в то же время ценность того, что мы выбираем, поскольку нам не дано выбирать зло; то, что мы выбираем, – непременно благо, и ничто не может быть благом для нас, не будучи таковым для всех. Если, с другой стороны, существование предшествует сущности, и мы хотим существовать, одновременно творя наш образ, этот образ значим для всех и для всей нашей эпохи в целом. А посему наша ответственность намного больше, чем мы могли бы предположить, поскольку она вовлекает в эту ответственность все человечество. Если я рабочий и делаю выбор примкнуть к христианскому профсоюзу, а не к коммунистам, если этим я хочу показать, что смирение – это решение, наиболее подходящее для человека, что царство человека не на земле, это касается не только меня, я желаю смириться ради всех, а следовательно, мой поступок затрагивает все человечество. Или, например, я хочу, – более приватный случай, – жениться и иметь детей: если даже эта женитьба зависит исключительно от моего положения, или моей страсти, или моего желания, этим я вовлекаю на путь моногамии не только себя, но все человечество. И потому я ответственен и за себя и за всех и создаю определенный образ человека, который выбираю; выбирая, каким быть мне, я выбираю, каким быть человеку вообще.
Это позволяет нам понять, что стоит за несколько высокопарными словами, такими, как тревога, оставленность[6], отчаяние. Как вы убедитесь далее, тут нет ничего сложного. Что понимается под тревогой
На этой странице вы можете прочитать онлайн книгу «Экзистенциализм – это гуманизм», автора Жана-Поля Сартра. Данная книга имеет возрастное ограничение 16+, относится к жанру «Литература 20 века». Произведение затрагивает такие темы, как «современная философия», «гуманизм». Книга «Экзистенциализм – это гуманизм» была написана в 1948 и издана в 2025 году. Приятного чтения!
О проекте
О подписке
Другие проекты

