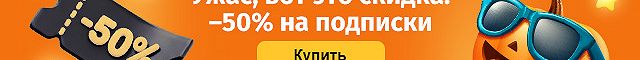
Любовь является конфликтом
Трансцендировать трансцендентность другого или, напротив, поглотить в себя эту трансцендентность, не устраняя ее характера трансцендентности, – таковы две первичные установки, которые я принимаю по отношению к другому. Здесь слова нужно понимать с осторожностью; неверно, что я являюсь вначале, а потом «стремлюсь» объективировать или ассимилировать другого; но в той степени, в какой появление моего бытия оказывается появлением в присутствии другого, в какой я являюсь преследующим бегством и преследующим-преследуемым, я оказываюсь в самой основе своего бытия проектом объективации и ассимиляции другого. Я являюсь испытанием другого – вот первоначальный факт. Но это испытание другого – само по себе установка по отношению к другому, то есть я могу быть в присутствии другого, не будучи этим «в-присутствии» в форме иметь в бытии.
Эти две позиции, которыми я являюсь, оказываются противоположными. Каждая из них есть смерть другой, то есть поражение одной мотивирует принятие другой. Следовательно, не существует диалектики моих отношений с другим, но есть круг, хотя каждая позиция обогащается от поражения другой. Однако нужно отметить, что в самой глубине одной всегда остается присутствующей другая, именно потому, что ни одна из двух не может быть поддерживаема без противоречия. Точнее, каждая из них есть в другой и порождает смерть другой; следовательно, мы никогда не можем выйти из круга. Необходимо не терять из виду эти замечания, приступая к исследованию фундаментальных установок по отношению к другому; мы будем вначале рассматривать действия, которыми для-себя пытается ассимилировать свободу другого.
* * *
Все то, что нужно для меня, нужно и для другого. В то время как я пытаюсь освободиться от захвата со стороны другого, другой пытается освободиться от моего; в то время как я стремлюсь поработить другого, другой стремится поработить меня. Здесь речь не идет об односторонних отношениях с объектом-в-себе, но об отношениях взаимных и подвижных. Отсюда описания, которые последуют, должны рассматриваться под углом зрения конфликта. Конфликт есть первоначальный смысл бытия-для-другого.
Если мы исходим из первичного открытия другого как взгляда, то должны признать, что испытываем наше непостижимое бытие-для-другого в форме обладания. Мною владеет другой; взгляд другого формирует мое тело в его наготе, порождает его, ваяет его, производит таким, каково оно есть, видит его таким, каким я никогда не увижу. Другой хранит секрет – секрет того, чем я являюсь. Он производит мое бытие и посредством этого владеет мной, и это владение есть не что иное, как сознание обладания мной. И я, признавая свою объективность, испытываю то, что он имеет это сознание. Через сознание другой есть для меня одновременно тот, кто украл мое бытие, и тот, кто делает то, «что существует» бытие, которое есть мое бытие.
Так я понимаю эту онтологическую структуру; я ответствен за мое бытие-для-другого, но я не есть его основание; оно появляется для меня, следовательно, в форме случайного данного, за которое я, однако, отвечаю, и другой основывает мое бытие, поскольку это бытие является в форме «есть»; но он за него не отвечает, хотя он его основал в полной свободе, в своей свободной трансцендентности и посредством нее.
Таким образом, в той степени, в какой я открываюсь себе как ответственный за свое бытие, я беру на себя это бытие, каково я есть, иначе говоря, я хочу его возобновить или, в более точных понятиях, я есть проект возобновления своего бытия. Это бытие, которое мне аппрезентируется как мое бытие, но на расстоянии, подобно пище Тантала, я хочу схватить его рукой, чтобы овладеть им и основать его своей свободой. Если в одном смысле мое бытие-объекта является неподдерживаемой случайностью и чистым «обладанием» меня посредством другого, то в другом смысле это бытие выступает в качестве указания на то, что было бы нужно, чтобы я возобновил его и основал, с тем чтобы быть своим основанием. Но это мыслимо только в том случае, если я ассимилировал бы свободу другого.
Таким образом, мой проект возобновления себя является существенно проектом поглощения другого. Во всяком случае, этот проект должен оставить неприкосновенной природу другого. Это значит следующее:
1. Я не прекращаю для этого утверждать другого, то есть отрицать собой, что я являюсь другим; другой, будучи основанием моего бытия, не может раствориться во мне без того, чтобы не исчезло мое бытие-для-другого. Если, таким образом, я проектирую реализовать единство с другим, это значит, что я проектирую ассимилировать инаковость (alterite) другого, как таковую, как мою собственную возможность. В самом деле, речь для меня идет о том, чтобы сделаться бытием, приобретая возможность стать в отношении себя на точку зрения другого. Но речь не идет, однако, о том, чтобы приобрести чистую абстрактную возможность познания. Это не чистая категория другого, которую я проектирую себе усвоить; такая категория непонятна и немыслима. Но дело касается конкретного испытания другого, переживающего и чувствующего; именно этого конкретного другого как абсолютной реальности, с которой я хочу объединиться в его инаковости.
2. Другой, которого я хочу ассимилировать, вовсе не является объектом-другим. Или, если хотите, мой проект соединения с другим совсем не соответствует овладению заново моим для-себя как себя и переводу трансцендентности другого к моим возможностям. Речь для меня не идет о том, чтобы устранить мою объективность, объективируя другого, что соответствовало бы моему освобождению от своего бытия-для-другого, но, напротив, я хочу ассимилировать его именно как рассматривающего-другого, и этот проект ассимиляции предполагает растущее признание моего рассматриваемого-бытия. Одним словом, я отождествляюсь полностью с моим рассматриваемым-бытием, чтобы поддержать напротив себя свободу рассматривающего-другого, и так как мое бытие-объекта является единственным возможным отношением меня к другому, то именно это – единственное бытие-объекта, которое может служить мне инструментом, чтобы произвести ассимиляцию свободы другого.
Таким образом, как реакция на поражение третьего экстаза, для-себя хочет отождествиться со свободой другого как основывающей его бытие-в-себе. Быть в себе самом другим – идеал, который всегда конкретно имеется в виду в форме бытия в себе самом этим другим, – и является первым значением отношений с другим; это свидетельствует о том, что мое бытие-для-другого преследуемо указанием на абсолютное-бытие, которое было бы собой в качестве другого и другим в качестве себя и которое, полагая свободно в качестве другого свое бытие-себя и в качестве себя бытие-другого, было бы бытием из онтологического доказательства, то есть Богом.
Этот идеал мог бы реализоваться, если бы я преодолел первоначальную случайность моих отношений с другим, то есть если бы не было никакого внутреннего отрицательного отношения между отрицанием, которым другой делается другим, чем я, и отрицанием, которым я делаю себя другим, чем он. Эта случайность непреодолима: она является фактом моих отношений с другим, как мое тело является фактом моего бытия-в-мире. Следовательно, единство с другим не реализуемо. Но оно есть по праву, так как ассимиляция для-себя и другого в той же самой трансцендентности необходимо повлекла бы исчезновение свойства инаковости другого. Условием того, чтобы я проектировал тождество со мной другого, как раз и является упорное отрицание мной, что я есть другой.
Наконец, этот проект объединения является источником конфликта, потому что в то время как я испытываю себя как объект для другого и проектирую ассимилировать его в этом испытании и через него, другой постигает меня в качестве объекта в середине мира и вовсе не проектирует меня ассимилировать. Было бы, следовательно, необходимым, поскольку бытие-для-другого предполагает двойное внутреннее отрицание, воздействовать на внутреннее отрицание, которым другой трансцендирует мою трансцендентность и делает меня существующим для другого, то есть воздействовать на свободу другого.
* * *
Этот нереализуемый идеал, раз он преследует мой проект в присутствии другого, нельзя уподоблять любви, так как любовь есть действие, то есть органическая совокупность проектов к моим собственным возможностям. Но он является идеалом любви, ее мотивом и ее целью, ее собственной ценностью. Любовь как первичное отношение к другому является совокупностью проектов, которыми я намерен реализовать эту ценность.
Эти проекты ставят меня в непосредственную связь со свободой другого. Именно в этом смысле любовь является конфликтом. В самом деле, мы отмечали, что свобода другого есть основание моего бытия. Но как раз потому, что я существую через свободу другого, у меня нет никакой защиты, я нахожусь в опасности в этой свободе; она оформляет мое бытие и делает меня бытием, она дает и забирает у меня ценности и является причиной постоянного пассивного ухода моего бытия в себя.
Безответственная, находящаяся вне досягаемости эта изменчивая свобода, в которую я включаюсь, может приобщить меня в свою очередь ко множеству способов различного бытия. Мой проект возобновить свое бытие может реализоваться, только если я захвачу эту свободу и редуцирую ее к свободному бытию, подчиненному моей свободе. В то же время это оказывается единственным способом, которым я могу действовать на внутренне свободное отрицание, которым Другой конституирует меня в Другого, то есть которым я могу подготовить пути будущего отождествления Другого со мной.
Возможно, это станет более ясным, если подойти к проблеме с чисто психологической стороны. Почему любящий хочет быть любимым? Если бы Любовь была чистым желанием физического обладания, она в большинстве случаев легко могла бы быть удовлетворена. Герой Пруста, например, который поселил у себя свою любовницу и сумел поставить ее в полную материальную зависимость от себя, мог ее видеть и обладать ею в любое время дня, должен был бы чувствовать себя спокойным. Известно, однако, что он терзается тревогой. Именно через сознание Альбертина ускользает от Марселя, даже если он рядом с ней, и поэтому он не знает передышки, как если бы он ее созерцал и во сне. Однако он уверен, что любовь хочет взять в плен «сознание». Но почему она этого хочет? И как?
Понятие «собственности», которым так часто объясняют любовь, действительно не может быть первичным. Почему я хотел бы присвоить себе другого, если бы это не был именно Другой, дающий мне бытие? Но это предполагает как раз определенный способ присвоения: именно свободу другого как таковую мы хотим захватить. И не по желанию власти: тиран насмехается над любовью; он удовлетворяется страхом. Если он ищет любви у подданных, то это из-за политики, и если он находит более экономное средство их покорить, он его тут же применяет.
Напротив, тот, кто хочет быть любимым, не желает порабощения любимого существа. Он не довольствуется несдерживаемой и механической страстью. Он не хочет обладать автоматом, и, если его желают оскорбить, достаточно представить ему страсть любимого как результат психологического детерминизма; любящий почувствует себя обесцененным в своей любви и своем бытии. Если бы Тристан и Изольда сошли с ума от любовного напитка, они вызывали бы меньший интерес. Случается, что полное порабощение любимого существа убивает любовь любящего. Цель пройдена, любящий вновь остается один, если любимый превращается в автомат. Следовательно, любящий не желает владеть любимым, как владеют вещью; он требует особого типа владения. Он хочет владеть свободой как свободой.
Но, с другой стороны, любящий не может удовлетвориться этой возвышенной формой свободы, которой является свободная и добровольная отдача. Кто удовлетворился бы любовью, которая дарилась бы как чистая преданность данному слову? Кто согласился бы слышать, как говорят: «Я вас люблю, потому что по своей воле соглашаюсь вас любить и не хочу отрекаться от этого; я вас люблю из-за верности самому себе»?
Таким образом, любящий требует клятвы и раздражается от нее. Он хочет быть любимым свободой и требует, чтобы эта свобода как свобода не была бы больше свободной. Он хочет одновременно, чтобы свобода Другого определялась собой, чтобы стать любовью, и это не только в начале приключения, но в каждое мгновение, и вместе с тем чтобы эта свобода была пленена ею самой, чтобы она обратилась сама на себя, как в сумасшествии, как во сне, чтобы желать своего пленения. И это пленение должно быть отдачей одновременно свободой и скованной нашими руками.
Не любовного детерминизма мы будем желать у другого в любви, не недосягаемой свободы, но свободы, которая играет в детерминизм и упорствует в своей игре. И от себя любящий не требует быть причиной этого радикального преобразования свободы, а хочет быть уникальным и привилегированным поводом. В самом деле, он не может хотеть быть причиной, не погружая тотчас любимого в середину мира как орудие, которое можно трансцендировать. Не в этом сущность любви. В Любви, напротив, любящий хочет быть «всем в мире» для любимого. Это значит, что он помещает себя на сторону мира; он является тем, кто резюмирует и символизирует мир; он есть это, которое включает все другие «эти», он соглашается быть объектом и является им.
Но, с другой стороны, он хочет быть объектом, в котором свобода другого соглашалась бы теряться, а другой согласился бы найти свою вторую фактичность, свое бытие и свое основание бытия – объектом, ограниченным трансцендентностью, к которому трансцендентность Другого трансцендирует все другие объекты, но который она вовсе не может трансцендировать. Однако он желает установить круг свободы Другого, то есть чтобы в каждый момент, когда свобода Другого соглашается с этой границей в своей трансцендентности, указанное согласие уже присутствовало бы как его движущая сила. Значит, посредством уже выбранной цели он хочет быть выбираем как цель.
Это позволяет нам понять до конца то, что любящий требует от любимого: он хочет не воздействовать на свободу Другого, но априори существовать как объективная граница этой свободы, то есть быть данным сразу с ней и в ее самом появлении как граница, которую она должна принять, чтобы быть свободной. Поэтому то, что он требует, является склеиванием, связыванием свободы другого ею самой; эта граница структуры является в действительности данной, и одно появление данного как границы свободы означает, что свобода делает себя существующей внутри данного, являясь своим собственным запретом ее переходить. И этот запрет рассматривается любящим одновременно и как переживаемый, то есть как испытываемый, одним словом, как фактичность, и как добровольный. Он должен быть добровольным, поскольку должен возникать только с появлением свободы, которая выбирает себя как свобода. Но он должен быть только переживаемым, поскольку должен быть всегда присутствующей невозможностью, фактичностью, которая течет обратно к свободе Другого до ее сердцевины. И это выражается психологическим требованием, чтобы свободное решение любить меня, которое ранее принял любимый, проскальзывало как околдовывающая движущая сила внутрь его настоящего свободного вовлечения.
Сейчас можно понять смысл такого требования: это фактичность, которая должна быть действительной границей для Другого в моем требовании быть любимым и которая должна завершиться тем, чтобы быть его собственной фактичностью, то есть моей фактичностью. Поскольку я есть объект, которого Другой приводит к бытию, я должен быть границей, присущей самой его трансцендентности; так что Другой, появляясь в бытии, делал бы из меня бытие в качестве абсолютного и непревышаемого, не как ничтожащее Для-себя, но как бытие-для-другого-в-середине-мира. Таким образом, хотеть быть любимым – значит заражать Другого его собственной фактичностью, значит стремиться к тому, чтобы он был вынужден постоянно воссоздавать вас как условие свободы, которая покоряется и берет на себя обязательства, значит одновременно хотеть, чтобы свобода создавала факт и чтобы факт имел бы преимущество над свободой.
О проекте
О подписке
Другие проекты