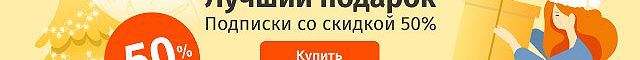
Захар Прилепин
Обитель
© Захар Прилепин
© ООО «Издательство АСТ»
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
* * *
От автора
Говорили, что в молодости прадед был шумливый и злой. В наших краях есть хорошее слово, определяющее такой характер: взгальный.
До самой старости у него имелась странность: если мимо нашего дома шла отбившаяся от стада корова с колокольцем на шее, прадед иной раз мог забыть любое дело и резво отправиться на улицу, схватив второпях что попало – свой кривой посох из рябиновой палки, сапог, старый чугунок. С порога, ужасно ругаясь, бросал вослед корове вещь, оказавшуюся в его кривых пальцах. Мог и пробежаться за напуганной скотиной, обещая кары земные и ей, и её хозяевам.
“Бешеный чёрт!” – говорила про него бабушка. Она произносила это как “бешаный чорт!”. Непривычное для слуха “а” в первом слове и гулкое “о” во втором завораживали.
“А” было похоже на бесноватый, почти треугольный, будто бы вздёрнутый вверх прадедов глаз, которым он в раздражении таращился, – причём второй глаз был сощурен. Что до “чорта” – то когда прадед кашлял и чихал, он, казалось, произносил это слово: “Ааа… чорт! Ааа… чорт! Чорт! Чорт!” Можно было предположить, что прадед видит чёрта перед собой и кричит на него, прогоняя. Или, с кашлем, выплёвывает каждый раз по одному чёрту, забравшемуся внутрь.
По слогам, вослед за бабушкой, повторяя “бе-ша-ный чорт!” – я вслушивался в свой шёпот: в знакомых словах вдруг образовались сквозняки из прошлого, где прадед был совсем другой: юный, дурной и бешеный.
Бабушка вспоминала: когда она, выйдя замуж за деда, пришла в дом, прадед страшно колотил “маманю” – её свекровь, мою прабабку. Причём свекровь была статна, сильна, сурова, выше прадеда на голову и шире в плечах – но боялась и слушалась его беспрекословно.
Чтоб ударить жену, прадеду приходилось вставать на лавку. Оттуда он требовал, чтоб она подошла, хватал её за волосы и бил с размаху маленьким жестоким кулаком в ухо.
Звали его Захар Петрович.
“Чей это парень?” – “А Захара Петрова”.
Прадед был бородат. Борода его была словно бы чеченская, чуть курчавая, не вся ещё седая – хотя редкие волосы на голове прадеда были белым-белы, невесомы, пушисты. Если из старой подушки к голове прадеда налипал птичий пух – его было сразу и не различить.
Пух снимал кто-нибудь из нас, безбоязненных детей – ни бабушка, ни дед, ни мой отец головы прадеда не касались никогда. И если даже по-доброму шутили о нём – то лишь в его отсутствие.
Ростом он был невысок, в четырнадцать я уже перерос его, хотя, конечно же, к тому времени Захар Петров ссутулился, сильно хромал и понемногу врастал в землю – ему было то ли восемьдесят восемь, то ли восемьдесят девять: в паспорте был записан один год, родился он в другом, то ли раньше даты в документе, то ли, напротив, позже – со временем и сам запамятовал.
Бабушка рассказывала, что прадед стал добрее, когда ему перевалило за шестьдесят, – но только к детям. Души не чаял во внуках, кормил их, тешил, мыл – по деревенским меркам всё это было диковато. Спали они все по очереди с ним на печке, под его огромным кудрявым пахучим тулупом.
Мы наезжали в родовой дом погостить – и лет, кажется, в шесть мне тоже несколько раз выпадало это счастье: ядрёный, шерстяной, дремучий тулуп – я помню его дух и поныне.
Сам тулуп был как древнее предание – искренне верилось: его носили и не могли износить семь поколений – весь наш род грелся и согревался в этой шерсти; им же укрывали только что, в зиму, рождённых телятей и поросяток, переносимых в избу, чтоб не перемёрзли в сарае; в огромных рукавах вполне могло годами жить тихое домашнее мышиное семейство, и, если долго копошиться в тулупьих залежах и закоулках, можно было найти махорку, которую прадед прадеда не докурил век назад, ленту из венчального наряда бабушки моей бабушки, сахариный обкусок, потерянный моим отцом, который он в своё голодное послевоенное детство разыскивал три дня и не нашёл.
А я нашёл и съел вперемешку с махоркой.
Когда прадед умер, тулуп выбросили – чего бы я тут ни плёл, а был он старьё старьём и пах ужасно.
Девяностолетие Захара Петрова мы праздновали на всякий случай три года подряд.
Прадед сидел, на первый неумный взгляд преисполненный значения, а на самом деле весёлый и чуть лукавый: как я вас обманул – дожил до девяноста и заставил всех собраться.
Выпивал он, как и все наши, наравне с молодыми до самой старости и, когда за полночь – а праздник начинался в полдень – чувствовал, что хватит, медленно поднимался из-за стола и, отмахнувшись от бросившейся помочь бабки, шёл к своей лежанке, ни на кого не глядя.
Пока прадед выходил, все оставшиеся за столом молчали и не шевелились.
“Как генералиссимус идёт…” – сказал, помню, мой крёстный отец и родной дядька, убитый на следующий год в дурацкой драке.
То, что прадед три года сидел в лагере на Соловках, я узнал ещё ребёнком. Для меня это было почти то же самое, как если бы он ходил за зипунами в Персию при Алексее Тишайшем или добирался с бритым Святославом до Тмутаракани.
Об этом особенно не распространялись, но, с другой стороны, прадед нет-нет да и вспоминал то про Эйхманиса, то про взводного Крапина, то про поэта Афанасьева.
Долгое время я думал, что Мстислав Бурцев и Кучерава – однополчане прадеда, и только потом догадался, что это всё лагерники.
Когда мне в руки попали соловецкие фотографии, удивительным образом я сразу узнал и Эйхманиса, и Бурцева, и Афанасьева.
Они воспринимались мной почти как близкая, хоть и нехорошая порой, родня.
Думая об этом сейчас, я понимаю, как короток путь до истории – она рядом. Я прикасался к прадеду, прадед воочию видел святых и бесов.
Эйхманиса он всегда называл “Фёдор Иванович”, было слышно, что к нему прадед относится с чувством трудного уважения. Я иногда пытаюсь представить, как убили этого красивого и неглупого человека – основателя концлагерей в Советской России.
Лично мне прадед ничего про соловецкую жизнь не рассказывал, хотя за общим столом иной раз, обращаясь исключительно ко взрослым мужчинам, преимущественно к моему отцу, прадед что-то такое вскользь говорил, каждый раз словно заканчивая какую-то историю, о которой шла речь чуть раньше – к примеру, год назад, или десять лет, или сорок.
Помню, мать, немного бахвалясь перед стариками, проверяла, как там дела с французским у моей старшей сестры, а прадед вдруг напомнил отцу – который, похоже, слышал эту историю, – как случайно получил наряд по ягоды, а в лесу неожиданно встретил Фёдора Ивановича и тот заговорил по-французски с одним из заключённых.
Прадед быстро, в двух-трёх фразах, хриплым и обширным своим голосом набрасывал какую-то картинку из прошлого – и она получалась очень внятной и зримой. Причём вид прадеда, его морщины, его борода, пух на его голове, его смешок – напоминавший звук, когда железной ложкой шкрябают по сковороде, – всё это играло не меньшее, а большее значение, чем сама речь.
Ещё были истории про баланы в октябрьской ледяной воде, про огромные и смешные соловецкие веники, про перебитых чаек и собаку по кличке Блэк.
Своего чёрного беспородного щенка я тоже назвал Блэк.
Щенок, играясь, задушил одного летнего цыплака, потом другого и перья раскидал на крыльце, следом третьего… в общем, однажды прадед схватил щенка, вприпрыжку гонявшего по двору последнего курёнка, за хвост и с размаху ударил об угол каменного нашего дома. В первый удар щенок ужасно взвизгнул, а после второго – смолк.
Руки прадеда до девяноста лет обладали если не силой, то цепкостью. Лубяная соловецкая закалка тащила его здоровье через весь век. Лица прадеда я не помню, только разве что бороду и в ней рот наискосок, жующий что-то, – зато руки, едва закрою глаза, сразу вижу: с кривыми иссиня-чёрными пальцами, в курчавом грязном волосе. Прадеда и посадили за то, что он зверски избил уполномоченного. Потом его ещё раз чудом не посадили, когда он собственноручно перебил домашнюю скотину, которую собирались обобществлять.
Когда я смотрю, особенно в нетрезвом виде, на свои руки, то с некоторым страхом обнаруживаю, как с каждым годом из них прорастают скрученные, с седыми латунными ногтями пальцы прадеда.
Штаны прадед называл шкерами, бритву – мойкой, карты – святцами, про меня, когда я ленился и полёживал с книжкой, сказал как-то: “…О, лежит ненаряженный…” – но без злобы, в шутку, даже как бы одобряя.
Так, как он, больше никто не разговаривал ни в семье, ни во всей деревне.
Какие-то истории прадеда дед передавал по-своему, отец мой – в новом пересказе, крёстный – на третий лад. Бабушка же всегда говорила про лагерную жизнь прадеда с жалостливой и бабьей точки зрения, иногда будто бы вступающей в противоречие с мужским взглядом.
Однако ж общая картина понемногу начала складываться.
Про Галю и Артёма рассказал отец, когда мне было лет пятнадцать, – тогда как раз наступила эпоха разоблачений и покаянного юродства. Отец к слову и вкратце набросал этот сюжет, необычайно меня поразивший уже тогда.
Бабушка тоже знала эту историю.
Я всё никак не могу представить, как и когда прадед поведал это всё отцу – он вообще был немногословен; но вот рассказал всё-таки.
Позднее, сводя в одну картину все рассказы и сверяя это с тем, как было на самом деле, согласно обнаруженным в архивах отчётам, докладным запискам и рапортам, я заметил, что у прадеда ряд событий слился воедино и какие-то вещи случились подряд – в то время как они были растянуты на год, а то и на три.
С другой стороны, что есть истина, как не то, что помнится.
Истина – то, что помнится.
Прадед умер, когда я был на Кавказе – свободный, весёлый, камуфлированный.
Следом понемногу ушла в землю почти вся наша огромная семья, только внуки и правнуки остались – одни, без взрослых.
Приходится делать вид, что взрослые теперь мы, хотя я никаких разительных отличий между собой четырнадцатилетним и нынешним так и не обнаружил.
Разве что у меня вырос сын четырнадцати лет.
Так случилось, что, пока все мои старики умирали, я всё время находился где-то далеко – и ни разу не попадал на похороны.
Иногда я думаю, что мои родные живы – иначе куда они все подевались?
Несколько раз мне снилось, как я возвращаюсь в свою деревню и пытаюсь разыскать тулуп прадеда, лажу, сдирая руки, по каким-то кустам, тревожно и бессмысленно брожу вдоль берега реки, у холодной и грязной воды, потом оказываюсь в сарае: старые грабли, старые косы, ржавое железо – всё это случайно валится на меня, мне больно; дальше почему-то я забираюсь на сеновал, копаюсь там, задыхаясь от пыли, и кашляю: “Чорт! Чорт! Чорт!”
Ничего не нахожу.
На этой странице вы можете прочитать онлайн книгу «Обитель», автора Захара Прилепина. Данная книга имеет возрастное ограничение 18+, относится к жанру «Современная русская литература». Произведение затрагивает такие темы, как «проза жизни», «история любви». Книга «Обитель» была написана в 2014 и издана в 2014 году. Приятного чтения!
О проекте
О подписке
Другие проекты
