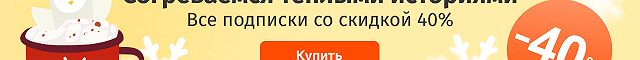
Близкие родственники, о которых сохранилось хоть что-нибудь
Бабушку свою, Хавронью Никифоровну, не помню совсем. Не сохранилось даже ни одной фотографии. Внуками ей заниматься было некогда, она все время где то хлопотала. Запомнилось только, когда она умирала. Это было в 1954 году. По рассказам матери, она была патологически трудолюбивая, из-за чего, собственно, и умерла. Это же качество по наследству досталось и матери. До коллективизации в семье было две коровы, две лошади, стадо овец, и прочая мелкая живность. Как тяжело все это было содержать описать невозможно, знает это только тот, кто это все прошел. Мать рассказывала, что когда, во время коллективизации, все это забирали в колхоз, бабушка была без памяти и ее отливали водой.
Похороны бабушки. Справа налево, Кока, сестра Руфа, мама, ее двоюродная сестра Надежда, дочь Симеона Никифоровича, соседки, отец.
Только последнее время я начал понимать, какой вихрь пронесся по российской деревне после революции. Стенания вперемешку с удивлением длились, пожалуй, до середины шестидесятых годов, когда стали платить зарплату и выдавать паспорта. Да и люди старого воспитания к тому времени поумирали, а появились новые, уже без трепетного отношения как к природе, так и к труду. Удивление, с точки зрения отношения к деревенскому человеку, вызывают все реформы, за исключением, пожалуй, Столыпинской (тоже спорной), которые проводили и проводят, так называемые, реформаторы. Особенно бесчеловечной, конечно, является коллективизация и последняя, ельцинская. Ельцинскую реформой, конечно, назвать вообще нельзя, просто все было брошено на погибель. Я говорю о Нечерноземье. Судя по заросшим полям в нечерноземной зоне, эта «реформа» идет и сейчас. Сейчас появилось модное, как все западное, слово «агломерация». Эта самая агломерация подразумевает уничтожение деревни, как социального понятия, а с ним и уйдет незаметно само понятие России. И все это будет закамуфлировано непонятными западными словечками.
Отвлекусь немного. Когда была жива Кока, которая о том времени могла много рассказать, я еще был мал, как следствие, глуп, чтобы задавать вопросы на эту тему. А по собственной инициативе после всего произошедшего, она, естественно, эту тему не поднимала. Но когда случайно заговаривали о крестьянской жизни, у ней всегда чувствовалась тоска по старой, дореволюционной жизни. Этот пробел хорошо восполнил Александр Николаевич Городков, живший в деревне Ломки, с которым мы сблизились в последнее время. Я о нем еще скажу. Так вот на примере своей семьи, главой которой был его дед, можно судить о вихре, пронесшемся тогда по крестьянской жизни. Жили они в деревне Мотыкино, находящейся в четырех километрах от Займища. У него было четыре сына. По мере взросления и создания собственных семей дед их отделял. Строились приблизительно в трехстах метрах дом от дома. Это не очень близко, что бы не мешать друг другу, и не очень далеко, чтобы вовремя прийти на помощь. Строиться помогали все. Младшему оставался родительский дом и хозяйство. За это он был обязан обеспечить спокойную старость родителям. Так вот после революции линию партии на коллективизацию выполняли «голодранцы» (его определение), не умеющие содержать и приумножать свое хозяйство, но желающие командовать. Во время этой коллективизации всем его дядям, жившим рядом с деревней, была дана команда перенести дома в Мотыкино в течение нескольких недель. Иначе высылка на Соловки. Дома поставить рядом. Преследовалась цель, как можно догадаться, приглядывать, как бы чего не замыслили вдалеке от «обчества». Я только в последнее время стал думать, что же творилось в головах нормальных крестьян, которые все это сумасшествие пережили. Первый раз слово Соловки я услышал, где-то в 50 году, когда соседи напротив куда-то уезжали. Это слово у меня ассоциировалось с соловьями.
Дед, Махов Егор Иванович, по материнской линии, в отличие от бабушки, был не местный. Когда и откуда он появился, я точно не знаю. Важно, что у матери был сводный брат, Павел Егорович, погибший в первые дни войны. Дед был кузнец. По словам матери, кузнец очень хороший. Как человек, отличался смирением, трудолюбием и добротой. Не мог убить даже комара, говоря, что он тоже хочет жить. По рассказам Коки, один раз в деревню приезжала его мать, «одетая как барыня». Что за трагедия разыгралась в его первой семье, приведшая его в деревню, узнать уже нельзя. Умер он в 1940 году, упав с чердака. Кузница у деда была своя. Стояла она на берегу реки. Пацанами мы часто бывали в кузнице, играли, делая вид, что помогали кузнецу. Узнал я о том, что это была наша кузница, где то в шестидесятых годах.
Павел Егорович перед уходом на фронт.
Кстати о чердаке. Когда я был совсем маленький, очень любил туда лазить. Там было интересно.. Стоял уже слегка разобранный ткацкий станок, на котором, я еще видел, раньше работала бабушка. Помню, как вертелось веретено в ее руках, когда из кудели образовывались нитки, из которых и ткалось полотно. Помню, как мелькал челнок, перемещаясь по будущему полотну на станке. Валялось много старых предметов хозяйства, старые газеты, на которых видны были некоторые замазанные чернилами лица бывших партийных бонз, упаковки спичек и прочее барахло.
Я с отцом. Примерно три года. Показать часы нужно было обязательно. Достаток. Со взглядом, наверно, что-то делали.
Примерно 47 год, с Тобиком.
А это чуть позже, наверно 48. Взгляд традиционно хмурый.
Бабушка Марья Андреевна, мать отца, жила в деревне Поросель бывшего Игодовского уезда, это где то километров 15 от Займища. Туда довольно редко мы ходили в гости. Правда гости, это определенные ритуалы, которые ребятам, особенно подвижным, радости не доставляли. Близости особой с их стороны не было и я их, как родственников, по молодости не воспринимал. Естественно, никакого участия в воспитании бабушка Марья не принимала. Дед по отцовской линии умер очень рано, до моего рождения. О нем я только слышал, что человек он был своенравный, если не сказать хуже. Занимался отхожим промыслом, малярил. Фотографии его не сохранилось. Зато сохранились фотографии моих прадедушки и прабабушки по отцовской линии.
Прадед и прабабушка по отцовской линии.
Как рассказала моя тетка Вера, жили они достаточно богато. К сожалению, она не помнит, каким образом это богатство добывалось. Судя по одежде и лицу деда, скорее всего, добывалось интеллектом. Во время коллективизации их выселили и сослали куда-то. Они не вернулись.
На этой фотографии изображены их дети. Вверху Павел Андреевич со своей женой. Они уехали в Ленинград. Связь поддерживали плохо. Я их видел один раз. Но жили они хорошо. Внизу справа Надежда Андреевна, будущая Городкова, в центре бабушка Мария Андреевна, слева еще одна Андреевна, но я ее ни разу не видел. На этой фотографии отсутствует Сергей Андреевич, о котором я ниже скажу.
У Марии Андреевны было два сына, Иван и Геннадий и три дочери, Нина, Вера и Лина, которую все обожали за красоту и кроткость. Она умерла в юности.
Эту фотографию, сделанную на свадьбе сестры Руфы, я поместил сюда, чтобы показать лицо Городкова Николая Михайловича. Надежда Андреевна вышла замуж за его отца, так он и стал нашим, хоть и дальним, но родственником. В центе тетка Вера, справа ее муж.
О нем чуть отдельно. Был он лет на пять моложе отца. После службы в армии подался в партийную работу. Работал Зам. председателя исполкома в Островском. Какое то время, учась в школе, я у них квартировался. Потом работал Председателем исполкома в Сусанине. Я к нему туда, учась в институте, году в 66, ездил за зимней шапкой. (Шапку украли весной). Там меховая фабрика была. Как раз, когда ездил за шапкой, я увидел на центральной улице толпы граждан, ходящих туда-сюда. Пришлось спросить, что за праздник. Он ответил, что только вчера закончили укладку асфальта, вот народ и празднует это мероприятие. Я его никогда грустным не видел. После Сусанина его направили первым секретарем в Парфеньевский район, один из самых лесных и грибных районов.
Кстати о юморе. Когда в 1972 году из-за жаркого лета полыхала вся страна, пожары не обошли и Парфеньево. Как то осенью, когда пожары потушили, он заехал к отцу, и сказал: «Смотри Геннадий, я полрайона сжег! Мне орден Ленина дали. Если бы сжег весь район, наверно, дали бы героя!» Примерно в это же время Леониду Ильичу захотелось белых грибов и груздей. Шестерки стали искать. Искали-искали, ни у кого нет, а у Николая Михайловича есть. Эти грибы сильно повысили его статус.
Николай Михайлович с отцом. Скорее всего, когда работал в Островском в исполкоме.
В 1974 году он помог отцу купить для нас Москвич, за что получил нагоняй. Но, видимо, грибы оказались сильней и его назначили Начальником управления торговли области. В 92 году я к нему ездил. Жаль, что он трагически погиб. Хороший и, главное, умный был человек.
Один раз мы с Кокой и трехлетней сестрой Руфой пошли к бабушке (вот пишу бабушка, а совершенно не ощущаю ее таковой) в Поросель, в гости. По пути была деревня Малышово, в которой, как назло, деревенский пасечник забирал у пчел мед. Они, естественно, были недовольны. Свое недовольство они и выплеснули на нас. Когда на нас налетел небольшой рой, сразу же ужалив несколько раз каждого, Кока с Руфой побежали, а мне она, почему то, велела лежать. Я лег, с ужасом прислушиваясь к гудящим вокруг пчелам. Лежал, пока одна из них не воткнула свое жало в самую высокую точку лежащего тела. Я вскочил и через минуту догнал спутников, и даже перегнал. Отделались легко.
Впечатления детские
Чем занимались ребятишки в деревне в то время. В принципе все ребята, в большей или меньшей степени, как только вырастали до возраста, когда не требовался особый пригляд, приучались к труду. Что это за труд? Надо было встретить вечером корову или другую живность, довести до дома и «застать», т.е. закрыть ее в хлеву. Не у всех это получалось. Если не получалось, «получали» они. В течение дня по мелочам помогать старшим. Помочь полить огород, переворошить сено. Я в основном таскался с бабушками. С ними было, почему то, интересно. Где то в четыре-пять лет мне сделали под мой рост «молотило», так у нас называли цеп, которым производилась молотьба сжатой и высушенной ржи. Обмолот проходил под навесом, называемым ригой, на ровном и сухом участке земли, называемом «ладонью». При желании, все движения по обмолоту могу проделать и сейчас. Были сделаны для меня и маленькие грабли. В руках все время был перочинный ножик, которым вырезались какие-то поделки. Очень хорошее занятие как для головы, так и для рук. Навыки работы с инструментом как раз тогда и закладывались.
Из летних игр помню лапту и городки. Естественно, весь спортивный «инвентарь» делали сами. Часто играли в игру, заключающуюся в том, чтобы из круга, очерченного палкой на земле, мячом нужно было выбить участников, а те, в свою очередь, должны были увернуться, или поймать мяч. Зимой катались на самодельных лыжах и на «ледянках». Ледянка была похожа на перевернутую табуретку. Для лучшего скольжения на нижнюю часть намораживали лед. Иногда с Кокой мы ходили к бабушке, живущей напротив, и играли с ней в карты. Играли в «пьяницу». Дурак считался сложной игрой.
Поскольку ребятишки, это будущие мужики, то у них всегда было желание что то повзрывать. Со взрывчаткой в деревне в то время было плохо, но нужда и смекалка помогала. В пузырек из под одеколона резали и складывали обрезки кинопленки. Потом курящий мальчишка туда стряхивал горячий пепел и заворачивал крышку. Пузырек кидался метров за десять, а мальчишки ложились на землю и ждали взрыва. Через какое-то время раздавался довольно звучный хлопок. Все были довольны. Не помню, чтобы кто-нибудь пострадал.
Километрах в четырех от деревни было озеро Кушкинское. В нем брала начало речонка Кушка, впадавшая в Медозу. В четыре года меня взяли ребята на озеро на рыбалку. Запомнилось озеро, как очень дикое, с топкими берегами, стоящее в глухом сосновом бору. Что поймали, не помню, но всю жизнь мечтаю попасть туда еще, но не получается.
Когда мне было шесть лет, а Руфине года полтора-два, отец принес весной с этого озера щуку, убитую им во время нереста из ружья. Тогда это браконьерством не считалось. Так эта щука ростом была чуть меньше его. Когда он ее положил на пол, к ней подошла Руфа и тронула ее рукой. Щука конвульсивно махнула хвостом и Руфа отлетела в сторону. Икры из этой щуки вынули целый таз.
В тот же год я совершенно случайно спас от смерти лосиху с лосенком. Отец меня взял с собой на болото, которое находилось на пути к этому озеру. Видимо, за ягодами. На всякий случай взял с собой ружье. Мужики, у которых были ружья, редко ходили в лес без него. Поскольку ружье было бескурковое, то самое трофейное, подаренное братом, отец на всякий случай поставил его на предохранитель. Это сделано для того, чтобы случайно задев за ветку дерева, нельзя было произвести выстрел, т.к. я болтался рядом. Я шел за ним. Вдруг слышу шепот: «Ложись!». Я лег вслед за отцом и увидел метрах в пятидесяти лосиху с лосенком. Уткнулся в мох, чтобы не слышать выстрела, но выстрела не было. Через несколько секунд лоси ушли. Оказалось, что отец забыл о том, что ружье на предохранителе. Ругался потом на меня.
Вся деревня была огорожена забором, представляющим из себя деревянные столбы с закрепленными на них горизонтальными жердями. На месте въезда и выезда из деревни были «заворы» – те же жерди, которые въезжающие и выезжающие из деревни вынимали, а потом опять вставляли в прорези в столбах. Делалось это с целью какого то контроля за скотом.
Я хоть и сказал, что деревня была маленькая, но она состояла из трех «порядков» (улиц), центральная, верхняя и нижняя. Верхняя и нижняя состояли из одного ряда домов. Центральная улица упиралась в красивый большой двухэтажный дом, до коллективизации принадлежавший семье Соболевых, пожалуй, самой уважаемой семье в деревне. В мое время в этом доме был сельсовет, куда празднично ходили голосовать на выборах. На втором этаже была библиотека, где я брал книги. Что-то еще там было, но в памяти не осталось. Когда ходил за книгами в библиотеку, а тогда давали только по одной, было несколько раз так, что книжку успевал прочитать, не дойдя до дома. Назад было идти нельзя – заругают, поэтому с нетерпением ждал завтра, чтобы быстрей бежать в библиотеку. Плохо, что в младенчестве никто не поставил систему в чтении, поэтому прочитанное напоминало салат в голове, пожалуй, до окончания школы. Системно начал читать уже после окончания института.
Еще одно воспоминание. Мы с мамой идем в магазин, что-то привезли. Идем быстро. Это мама идет быстро, а я бегу. Бегу и удивляюсь, как же так, она женщина идет, а я, мужик, бегу.
Когда пошел в первый класс, там рассказали, что такое пионерский костер. Придя из школы, я стал показывать сестре Руфе, что это такое. Костер я разложил прямо на крыльце в жаркий сентябрьский день, и разжег его. Счастье, что мать случайно пришла как раз в это время. Когда она меня порола, я все удивлялся, за что. Неужели бы я не успел его затушить в случае чего. Вот что такое детская голова в семь лет.
Когда мне было лет пять, приехал в отпуск из Москвы (это он так говорил, хотя жил в Электростали) брат мамы, дядя Саша. Из-за маленького возраста и роста его не взяли на фронт, а мобилизовали на завод боеприпасов в Электросталь. В этот момент завод уже хотели эвакуировать в Новосибирск. Людей на заводе почти не осталось. Вот поэтому и набирали по всей стране, кто не мог воевать. Этот завод в войну делал, в том числе, и ракеты для знаменитых «катюш». На этом заводе, после окончания института, мне и пришлось заработать почти весь свой основной трудовой стаж, правда делать пришлось не ракеты, а тепловыделяющие сборки для атомных станций. Рассказывая о городской жизни, дядя Саша сказал, что жители ездят в Москву на электричках. В слове электричка мне виделось что-то очень маленькое, и я все время удивлялся, как же большие люди в нее помещаются.
Представление развеялось только после первого путешествия на этой самой электричке.
Семион Никифорович с племянником, а моим дядей Сашей
О проекте
О подписке
Другие проекты










