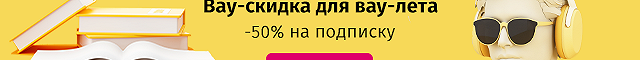
– Ничего, бог даст – поправится. В войну люди завсегда сильнее становятся. Я это по себе знаю: как осерчаешь на кого, откуда силы берутся, кажется, горы бы свернул… А чего, Осип, ты ещё не женился? Вот бы невестка-то с матерью и осталась.
– А если такая, как ты? – усмехнулся Осип.
– И я бы осталась, – спокойно ответила Серафима, – ты бы пошел, а я осталась. Я и Матвею так говорила, а он не понимает! Уперся, как пень еловый, и все тут. Его броня завлекла хуже невесты.
– Как-то там будет? – вздохнул Осип. Хмель его не брал.
– Хорошо будет, – твердо сказала Серафима, собирая остатки еды. – Побьем мы его, вот увидишь. А так бы зачем нам и ехать?
Спали они, привалившись спиной друг к другу. Вахтенный матрос заглянул за ящик, увидел их, тихонько присвистнул, улыбнулся и ушел. А солнце взошло, заглянуло в закуток и осталось, мягко лаская их юные головы, и когда проснулись они, чего-то смущаясь и неловко отодвигаясь друг от друга, прикрылось тучкой, словно глаза смежило.
– Как бы дождя не натянуло, – сказал Осип.
– Нет, не натянет, – возразила Серафима, – вчера солнышко чисто садилось.
– Скоро приедем.
– Да пора уже.
– И чё ты не мужик?
– А зачем?
– Вместе бы воевать пошли.
– А один боишься, что ли?
– Тьфу, боюсь я! Мне за тебя страшно. Баба все-таки. Всякий обидеть может. Наш брат ведь разный бывает.
– Ты какого года, Осип?
– Двадцать второго, а что?
– Рассуждаешь, ровно мальчик ещё… Жениться надо было давно, Осип. Тогда мужик быстрее матереет.
Осип не ответил. Вдалеке, на высоком берегу, показались первые дома Хабаровска, и пароход приветствовал его длинным хриплым гудком.
На сборном пункте было людно, шумно и бестолково. Высокий плотный мужчина в военной форме хрипло выкрикивал фамилии, от толпы отделялись мужики, вставали в неровную шеренгу, переминались с ноги на ногу, приглядывались к соседям, крутили в руках кисеты и портсигары, но закурить не решались. Шеренги споро уводили куда-то, а на их место вставали новые мужики, и военный уже шепотом называл фамилии, придерживая горло рукой. Его щеки были синими от бритья, а глаза красные, как у голубя. На безымянном пальце правой руки поблескивало обручальное кольцо.
Уходили и уходили шеренги, а толпа на сборной пункте все не убывала. Уже давно выкликнули Осипа, и он твердо встал в строй, и твердым шагом ушел вместе с очередной шеренгой, а Серафима все не решалась подойти к военному. Она бы и решилась, так как ничуть не робела, и даже – наоборот, при виде такого количества народа, уходящего на фронт, еще большей решимостью воевать наполнилась, но от военного за версту пахло усталостью. Устал человек до изнеможения, и Серафиме совестно было беспокоить его.
Наконец наступила передышка. Военный достал платок, отер лицо и высморкался. Серафима робко тронула его за рукав. Он не услышал. Тогда она пальцем постучала по руке военного, и он, спрятав платок, медленно повернулся к ней.
– Что вам? – он смотрел и не видел Серафимы.
– Запишите меня, – попросила Серафима.
– Куда?
– На фронт. Я любую работу делать могу.
– На фронте, милая, не работают, а воюют. А вам не воевать надо, а рожать. По возможности – мальчиков. – Он подумал, еще раз взглянул на смущенное и решительное одновременно лицо Серафимы и, видимо, что-то поняв, махнул рукой: – Идите в военкомат, там посмотрят, а я этими делами не занимаюсь.
– Иванов! Кислицкий! Терапян! Воскогонов! Лобанов! – опять выкликал военный, и из толпы все выходили и выходили мужики, каменея скулами и тоскуя растерянными глазами…
Из военкомата Серафима вышла сердитой. Там никто ее и слушать не захотел. Все суетились, бегали по длинным полутемным коридорам, быстро и нервно курили, кричали, слушали сводку из огромного радиоприемника и опять как ошпаренные носились из кабинета в кабинет. Единственное, что ей посоветовала какая-то тощая и длинная женщина с накрашенными губами, правда, в военной форме, это обратиться в свой районный военкомат.
«Ну, это уж дудки, – сердито подумала Серафима, внимательно глядя в крашеный рот дамочки, – это уж ты сама туда поезжай, а я и так обойдусь. Не для того добиралась, чтобы оглобли назад поворачивать».
Она вышла из военкомата, спросила какого-то паренька, как ей добраться до вокзала, и решительно зашагала в указанную сторону. Город выглядел притихшим и пустым. Редкие прохожие не улыбались и не любопытствовали взглядом, ребятишки собирались в кружки и о чем-то по-взрослому беседовали, торопились машины, на станции часто и пронзительно гудели паровозы.
В первый момент станционная толчея сбила Серафиму с толку, закружила, ошпарила каким-то сумасшедшим ритмом. Но она быстро разобралась что здесь и к чему, выбралась из здания вокзала, протискалась по перрону и стала пробираться между бесконечно длинными составами. Были это все товарняки, тяжелые, длиннющие и грязные. Когда трогался какой-нибудь состав, земля вздрагивала, и грохот оглушал Серафиму. Она отскакивала в сторону, считала зачем-то вагоны, очень скоро сбивалась и растерянно смотрела на то, как, грохоча и взвизгивая, несется мимо нее громадная и живая железная змея. В одном месте Серафима наткнулась на солдатские теплушки и долго наблюдала, как суетятся вокруг них новобранцы, молодые и старые, веселые и грустные. Она хотела подойти, посмотреть, нет ли среди них Осипа, но паровоз свистнул, попятился вначале назад, потом сильно дернул вперед, пробуксовал на месте и потихоньку тронулся. Солдатики на ходу уже прыгали в теплушки, кто-то крепко матюкнулся, кто-то засмеялся и поезд укатил.
Серафима устала, хотела есть. Охранники товарняков косо посматривали на нее и что-то говорили между собой, а один из них вдруг направился к ней. Тогда она повернулась и пошла на вокзал.
Как родная меня мать провожала…
Пел какой-то подвыпивший мужичок, ломая картуз и голос, и все с удивлением смотрели на него, а потом подошел милиционер и увел его. Серафима пожалела мужичка, потому что был он плюгавенький, ротастый, пел жалобно и неумело.
До ночи она просидела в зале ожидания, изредка засыпая и вздрагивая от гудков паровозов. Когда стемнело, опять пошла на перрон, и здесь, на первом пути, прямо напротив вокзала, стояли несколько вагонов с большими красными крестами.
Серафима обмерла, сердце у нее часто-часто застучало, в висках заломило и сразу захотелось пить.
К вагонам с красными крестами часто подходили грузовики, и молоденькие девчата в зеленых юбчонках и гимнастерках все носили и носили в вагоны из грузовиков какие-то белые коробки. За ними наблюдал толстый военный с большим мясистым носом и узкими быстрыми глазами. Серафима как глянула на него, так сразу и поняла, что это медицинское начальство и, если кто может сейчас решить ее судьбу, то только этот начальник.
– Товарищ фершал, – обратилась она к толстяку, – я к вам.
– Что?! – вытаращил тот рысьи свои глаза. – Как вы сказали?
Одна из девчонок, набравшая коробок из грузовика выше головы, оглянулась на громкий голос толстяка. Коробки качнулись и, если бы не Серафима, попадали на землю. Перехватив коробки и встав с ними перед толстяком, Серафима решительно и строго сказала:
– Не слышишь, что ли, к вам я, говорю. На поезд…
– Вас Конюхов направил?
– Никто меня не направлял, – сердито посмотрела Серафима на толстяка, – я сама себе направщица. Коробки-то куда несть, в вагон, что ли?
– Нести, – машинально поправил толстяк, как-то смешно поморщившись мясистым своим носом, – в вагон, разумеется. Но…
Серафима повернулась и, не дослушав толстяка, почти бегом бросилась к ступенькам.
– Ой, умру! – через час говорила круглолицая симпатичная Ольга, та самая, что чуть было не уронила коробки, – она ему, товарищ фершал, а Семен Николаевич-то наш опешил, глазенки вытаращил и как завопит: что?
Девчата смеялись. Вместе с ними смеялась и Серафима. Еще через час ее оформили санитаркой и отвели место в узком и тесном купе…
И поезд пошел по России. А и велика же она. Не то что глазом, мыслью разом не охватишь. День и ночь стучат колеса, за окном все горы великие да просторы шальные. Другой раз утонет взгляд в могучей долине, поезд уже сотни верст пробежал, а взгляд все еще там, в той долине, ищет чего-то и не находит, и оторваться не решается.
Больше месяца добирался эшелон к фронту, и за это время Серафима вполне освоилась, привыкла к новым людям, и они к ней привыкли. По вечерам начальник санитарного эшелона, тот самый толстяк, Семен Николаевич, проводил занятия, и Серафима старательным крупным почерком писала в зеленую тетрадку длинные, трудные даже на слух слова.
– Лукьянова, – строго говорил Семен Николаевич, на котором и через месяц форма сидела смешно и нескладно, – а как мы будем производить перевязку предплечья?
Серафима смущалась, путала слова, но отвечала в общем-то верно.
– Хорошо, Лукьянова, – кивал мясистым носом Семен Николаевич, – ну а как ты поступишь, если будет… будет, к примеру, пулевое ранение в области живота?
– Ну, первым делом, остановить кровь…
– Как ты ее остановишь?
– Ну…
– Не нукай, Серафима, – сердился Семен Николаевич, – сколько раз тебе говорить… Ну и как же?
– А вы?
– Что я?!
– Чего нукаете?
– Гм…
Девчата хохотали. Семен Николаевич хмурился, но видно было, что и он едва удерживается от смеха.
– Возьми шприц, Лукьянова. Взяла? Как мы будем делать укол в фронтовых условиях?
А поезд все бежал и бежал вперед и остановился лишь в небольшом подмосковном городке – Подольске. И едва паровоз завел эшелон на запасной путь, как поступила первая партия раненых. Первая – для эшелона. Первая – для Серафимы. Для страны – уже давно очередная.
Как-то в госпиталь поступила девушка-санинструктор. Ее звали Леной, и ранена она была осколком снаряда в правое бедро. Пока делали операцию, эта хрупкая, интеллигентного вида девушка, с мягким красивым ртом, страшно и много ругалась в беспамятстве. Серафима никак не могла поверить, что ругательства принадлежат именно этой девушке, и растерянно оглядывалась кругом. И странное дело, именно к Лене прониклась Серафима любовью и самым большим уважением, на которое была способна в те первые дни.
Через несколько дней Лену увезли дальше в тыл.
– Говори смело и гляди в глаза, – строго учила Лена внимательно слушавшую Серафиму. – Если спросят, поройся для вида в карманах и сделай вид, что потеряла… Впрочем, сейчас там не до предписаний. Ребятам обо мне сразу не говори. Если Боголюбов жив, держись его. И не трусь! Фашисты сволочи, и поэтому все равно все подохнут! Все! Все! До единого!
Лену увезли, а на другой день ушла из поезда Серафима, чтобы сменить ее.
Многого она тогда не знала. Не знала, что за два дня до ее ухода началась немецкая операция «Тайфун». С далеких рубежей, от Рославля, Белого, Смоленска, Калинина, Вязьмы, двинулись фашистские дивизии на штурм Москвы. Фашисты спешили ещё до зимних морозов красиво промаршировать по Красной площади… Серафима этого не знала, как не знала и того, что от противотанковой батареи, куда она отправилась заменить Лену, осталось лишь два орудия, командовал которыми вместо погибшего командира Петелина старший сержант Никита Боголюбов.
О проекте
О подписке