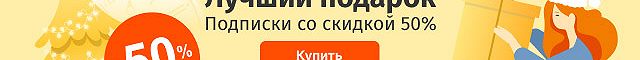
Большая трехкомнатная квартира Ольгиного отца находилась в старом, еще дореволюционной постройки доме, затерявшемся в бесконечных дворах между Моховой улицей и Литейным проспектом. Отдушина. Дом-крепость. Впрочем, от чего это спасало? Дочка Катя постоянно болела ангиной. Врачи советовали сменить климат. Но не то, что на отпуск в южных краях, денег не хватало даже на питание. Уже больше года Ольга не работала, существовали они с дочкой в основном на отцовские средства, которые тот аккуратно переводил из Торонто в первых числах каждого месяца.
С Петром Рябцевым Ольга сблизилась вновь, когда ее развод еще не был оформлен, а сама жизнь всё еще походила на наспех сколоченную переправу, как ей казалось, уносимую течением в неведомом направлении. Переломный момент в жизни затягивался. И что совсем не укладывалось в голове: сегодня Петр Рябцев, бывший полковничий сын, из разгильдяя превратившийся в военного и посвящавшей себя непонятному призванию, служивший непонятно где, – именно он воплощал для нее чуть ли не единственную связь с реальным миром. Петр казался ей самым нереальным человеком из всех, кого она знала. Мир, в котором протекала большая часть его существования, пугал ее. Надежной почвы под ногами Ольга не чувствовала и сегодня…
Увы, именно за это она недолюбливала военных – отчасти разделяя расхожее мнение: военную карьеру человек выбирает не потому, что горит желанием послужить Отечеству, а от какого-то внутреннего страха перед жизнью, от неприспособленности к реальному миру, который заставляет «служить» вещам куда более банальным, но с полной отдачей, с максимальной ответственностью за малейший свой поступок, за близких, причем нести ее на себе приходится с утра до вечера. В армии же груз ответственности ложится на плечи кого-то другого…
С тех пор как их прежние отношения прервались, Оля немало изменилась, внешне – сильно похудела, осунулась, лицо по утрам выглядело давно немолодым, изношенным. Но тем более трогательной, более похожей на себя саму она казалась Петру, в чем он признавался ей, и тем труднее ему было укрощать в себе постоянное желание близости… Закрыть глаза и усилием воли повернуть время вспять, чтобы перечеркнуть разделявшее их время, попробовать начать всё сначала – вот это стоило усилий. Даже сегодня Петр умудрялся витать в облаках… Он объяснял, что его всё чаще преследует противоречивое чувство: по мере того, как в нем вызревает понимание происходящего вокруг и появляется обыкновенный жизненный опыт, от которого тоже никуда не денешься, он всё больше и больше что-то в себе расходует, вопреки, казалось бы, неизбежным приобретениям. Прежнее знание – врожденное, инстинктивное, поразительно всё упрощавшее в годы юности, себя как будто исчерпало. Вместе с ним пропало и ощущение, что мир – это что-то притягательное, полное новизны, что всё еще впереди, достаточно захотеть чего-то по-настоящему. На смену бесшабашным иллюзиям пришло до невыносимости ясное понимание, что человек не хозяин положения, не хозяин своей жизни…
Ольга упрекала его в несостоятельности – особой, мужской, от которой человек, рано осознавший свои преимущества и не сумевший воплотить их во что-то дельное, обречен страдать всю жизнь, неизбежно запираясь в идеализме, и заставляет страдать других, поскольку готов поделить с ними всё, но не главное – не саму жизнь, не радости каждого дня, которые и делают ее сносной. «С работы» он якобы приносил в ее жизнь один «негатив», и вообще будто бы стал другим человеком. Несмотря на перенесенное ранение, он по-прежнему сохранял прекрасную физическую форму, внешне – вроде бы тот же, но изнутри он словно переродился…
Оля не разделяла ни его взглядов, как Петр считал, ни чувств, но он верил, что однажды сможет добиться полной взаимности. Не были ли они слишком похожи? Могут ли два человека, внутренне столь близкие, в чем-то даже одинаковые, дополнять друг друга по-настоящему? Не поэтому ли ему иногда кажется, что она относится к нему не как к мужчине, а как к брату? В их отношениях Петру нет-нет да мерещилось что-то кровосмесительное, это чувство его преследовало еще со школы, с тех времен, когда из-за переезда отца по службе в Москву он жил с петербургской бабушкой один. Разве мог нормальный мужчина спать с сестрами? Его домыслы вызывали у Ольги одни обиды…
Недавно отец пригласил ее с дочкой в Торонто, погостить до весны. С решением нельзя было откладывать: Сергей Сергеевич настаивал на том, чтобы они отправились до пятнадцатого декабря. Оля была в растерянности, не знала, принять ей приглашение отца или остаться дома до весны. Петр же уговаривал не тянуть, ехать. Однообразная жизнь в Петербурге, без дела, без работы, Ольгу изматывала. Да и дочь слишком часто болела. Снежная, солнечная и сухая канадская зима, о которой отец рассказывал по телефону, не могла не пойти девочке на пользу.
Петр проявлял настойчивость себе во вред и прекрасно это понимал. Уедет Ольга – и на что тогда тратить отпуск, буквально прописанный врачами после госпиталя? Болтаться между Гатчиной и квартирой родителей? Возобновлять старые связи? Щемящее чувство скручивало в узел при одной мысли, что придется обходиться без белых Ольгиных плеч, без ее молчаливого безволия, без ее прохладной и немного талой, как снег, женственности. Жизнь без бледной слабенькой Катюни он тоже с трудом себе представлял. У него не было другого дома…
В середине декабря Оля всё же улетела с дочкой к отцу, намереваясь вернуться в феврале, к своему дню рождения. И уже на следующий день Петр подал рапорт с просьбой о возвращении в свое подразделение. К рапорту он прилагал заключение медкомиссии, согласно которому перенесенное им ранение не являлось препятствием для дальнейшего прохождения службы.
Просьбу сразу отклонили, и хотя отказ не выглядел окончательным, у Петра практически не было шансов попасть в Грозный с ближайшей сменой, которая отбывала под Новый год. Оставалось надеяться на перемену настроения у начальства, потому что следующую смену могли отправить не раньше, чем через пару месяцев.
После затяжной осени окраины декабрьского Петербурга утопали в непролазной слякоти. С неба сыпались то снег, то град, что ни день лил холодный дождь. Сероватый город ничем особенно не радовал, разве что предпраздничной суетой на центральных улицах.
За лето родители Рябцева распрощались с московской квартирой и купили жилье в Питере, на Мойке. Старое и не очень опрятное здание требовало капремонта. Зато матери наконец-то удалось перебраться на родину, о чем она мечтала не один год. Навещая родителей на новой квартире, Петр обычно пересекал пешком центральную часть города. Если для неспешной прогулки времени не оставалось, он направлялся от Балтийского вокзала самым коротким маршрутом – через Фонтанку до Сенной площади, откуда поворачивал к Мойке и выходил на нее у Фонарного моста. Отпускные дни казались бесконечными, и иногда, чтобы убить час-другой, он останавливался по дороге то в одном, то в другом кафе.
Как-то утром Рябцев вошел в знакомую бильярдную на Садовой. Заведение переполняла праздная молодежь – студенты какого-то коммерческого института, которые не слишком утруждали себя учебой. Публика приковывала к себе взгляд. С тех пор как он наведывался сюда в последний раз, в прошлом году, слишком многое изменилось. Лица людей стали другими, даже в голосах чувствовалось что-то новое, непривычное. Изменился сам город. Или ему казалось? После госпиталя окружающий мир воспринимался совершенно по-иному. В глаза бросалось слишком много мелкого, лишнего и пустого…
Петр присел на высокий табурет у барной стойки и, чтобы не выглядеть белой вороной, попросил чашку чая. Хотя если бы в тот момент ему сказали, что отныне в городских кафе можно, не вызывая ни у кого изумления, заказывать всё, что угодно, он предпочел бы стакан горячего молока. Развеселая компания отлынивающих от занятий студентов осаждала бильярдный стол. Несмотря на ранний час, почти все они курили и пили пиво. Некоторые подходили к бармену еще и за водкой.
Одна из девушек отделилась от компании, подошла к стойке, чтобы забрать приготовленный ей эспрессо, и попросила у Петра закурить.
Извиняющимся тоном он сказал, что не курит.
– И не пьешь, могу поспорить? – усмехнулась девушка, непринужденно перейдя на «ты».
– Можно и не спорить.
– Всё ясно с тобой… А ты, случайно, не маньяк?
Петр пожал плечами:
– Вроде бы нет.
Девушка окинула его презрительным взглядом и, развернувшись, направилась к компании у бильярдного стола. Вдруг смех и галдеж стихли. Вся компания уставилась на Петра. Через некоторое время к нему подошел губастый парень в расстегнутой чуть не до пупа рубашке:
– Здоро́во! Это ты непьющий и некурящий?
– Не знаю, может, и не я, – тем же обезоруживающим тоном ответил Петр.
– Ты вот что, давай пояснее… Надумал или нет?
Петр непонимающе уставился на губастого.
– Сорок баксов. Но квартира твоя, – наклоняясь ближе и понизив голос выдал тот. – И деньги вперед, сам понимаешь… – Парень повернулся в сторону подруги и поманил ее пальцем.
Девушка подошла.
– Здесь притон, что ли? – осенило Петра. – Ну вы даете…
Губастый молодой человек уставился на Рябцева с недоумением.
– Вас как зовут? – обратился Петр к девушке.
– Екатерина.
– Если он вас оскорбляет, я могу его башкой разбить… вот эту витрину. – Петр кивнул на большое витражное панно и, уловив в своих словах всё ту же фальшь, которую не мог перебороть, чувствуя, что рисуется, с сожалением добавил: – С вашей-то внешностью… Не верю, что вы этим занимаетесь.
Сутенер, буркнув нечто невнятное, поторопился отойти в сторону. Екатерина простовато фыркнула, развернулась и устремилась следом за ним.
Посидев за стойкой еще некоторое время, Петр расплатился и вышел из прокуренного помещения на воздух. В эту бильярдную Петр больше не заходил…
В понедельник отец назначил ему встречу на два часа дня в храме Петра и Павла на Пушкарской, при котором уже не первый год помогал друзьям по хозяйству, а затем стал и членом приходского совета.
Еще недавно кадровый военный, в звании полковника получивший назначение на генеральскую должность, с которой даже не самый прыткий служака, как с трамплина, мог взлететь на самый верх, отец оказался в переломный момент, как многие, перед неразрешимой дилеммой: приходилось выбирать не раздумывая, за кого делать ход – за белых или за черных?
При этом разница между белыми и черными убывала на глазах. И те и другие рвались к власти. Честь мундира, совесть, чувство собственного достоинства… – таким понятиям уже не было места, дележ власти стал самоцелью. Да и присяга больше никого и ни к чему не обязывала… Так отец говорил о новом времени и о причинах своего ухода. В результате, вместе со многими бывшими сослуживцами, он оказался у разбитого корыта.
Рапорт об увольнении Михаил Владимирович подал еще в девяносто шестом году, сразу после вывода войск из Чечни, а точнее, по возвращении из командировки в Грозный, куда был отправлен в составе генштабовской комиссии. Снаряжена была экспедиция для переговоров с новой масхадовской властью об условиях эвакуации последних армейских подразделений. О той последней командировке отец стал рассказывать только позднее, уже после увольнения. Комиссия попала на экскурсию в ад. Переговоров, как таковых, не велось. Происходила сдача власти, а частично и имущества, как при Дудаеве, военного и государственного, с наименьшими якобы издержками для обеих «сторон»: то есть бери сколько унесешь. Понаглядевшись на искалеченных солдат и на голодных местных сирот, воочию убедившись, чем закончилась первая кампания, начало которой он хоть и не приветствовал, но принимал как меньшее из зол, отец почувствовал себя не только вдвойне обманутым, но и, в конечном счете, ответственным за собственную слепоту. Бездарная кампания закончилась так же, как и началась, полной неразберихой, непоследовательностью в решениях, и это не могло не повлечь за собой новых жертв. Особенно непростительным это было в отношении мирного населения, фактически втянутого в бойню обеими сторонами. И всё это при полном попустительстве тех, кто владел нужной информацией, знал, что происходит и вполне мог влиять на развитие событий…
Иногда Петр спрашивал себя, не сплоховал ли отец в критическую минуту? Ведь другие продолжали служить и даже воевали, не считали себя одураченными, не чувствовали себя винтиками механизма, которым заправляют некие группировки, тайно прорвавшиеся к власти и враждебно настроенные ко всему на свете. С другой стороны, по долгу бывшей службы, не один год прослужив в непосредственном контакте с высшими государственными структурами, отец относился к той категории людей, которых принято считать информированными, и он явно знал о происходящем в стране нечто такое, что заставляло его определенным образом относиться не только к тому, что творится на улице и дома, но и к армии, к собственному прошлому. Возможно, он не хотел или не мог говорить об этом в семье.
После увольнения друзья устроили его на хорошо оплачиваемую работу. Новая гостиница на Большой Морской принадлежала американским акционерам, главным управляющим был швед русского происхождения. Отца, как он сам подшучивал над собой, завербовали на должность менеджера по кадрам. Новые обязанности не слишком сильно отличались от тех, которые он исполнял на старой работе, – жалованье платил вчерашний «идеологический противник», вот и вся разница. На новую жизнь отец не сетовал. Но о работе никогда не говорил, несмотря на то, что, как и прежде, она отнимала у него большую часть времени. Служил как всегда на совесть, хотя нетрудно было догадаться, что к новому делу он абсолютно равнодушен…
Рябцев-старший спустился с крыльца на тротуар, чтобы обнять сына, и трижды прильнул к его лицу щекочущей бородой. Морщась в укоризненной улыбке, которую прятал в углы рта всякий раз, когда встречи происходили на Пушкарской, на церковном подворье, Михаил Владимирович окинул сына взглядом веселых серых глаз и распахнул перед ним входную дверь.
В кабинете настоятеля было людно. На диване восседал преклонных лет батюшка с окладистой бородой и в очках, весь в черном, на груди – массивный крест-панагия. Напротив, на стульях, расположилась пара средних лет. Он – Христофорыч, так Рябцев-старший представил его Петру, она – Маргарита. Окно загораживал силуэт рослого пожилого мужчины, по виду иностранца. Другой иностранец, помоложе, сидевший за письменным столом, обращаясь ко всем, что-то вполголоса говорил.
– Владыка, хочу вас познакомить с сыном, – сказал Михаил Владимирович пожилому священнику, приветливо ему улыбнувшемуся. – Это Петр.
– И вы тоже… Петр? Очень приятно, – промолвил старик, доброжелательно кивнув Рябцеву-младшему.
Внимание Петра, не без любопытства смотревшего на собравшихся, привлек рослый светловолосый иностранец.
Иностранец оказался шведом белоэмигрантских кровей. Он жил в Стокгольме, а в Петербург приехал по работе: ему предложили возглавить на родине отцов гостиничный концерн. По-русски он изъяснялся свободно, почти без акцента. Вместе с Рябцевым-старшим они работали на одного босса.
Петр как-то сразу понял, что это и есть работодатель отца. А священник – не кто иной, как именитый владыка Ипатий, о котором отец как-то рассказывал дома, – тоже потомок белых эмигрантов, долгие годы служивший в Сан-Франциско и теперь, уже на покое, проживающий в Вашингтоне. В Петербург он приехал в гости к знакомым.
– А это наш знаменитый писатель… Познакомься, Петь, – продолжал отец каким-то наигранно-бодрым тоном, глядя на приподнявшегося из-за стола незнакомца лет сорока. – Он тоже за границей живет… в Лондоне.
– Лопухов, – представился тот, явно смущенный тем, как его представили.
Разговор, прерванный появлением Рябцевых, меж тем возобновился. Пара средних лет обращалась к немолодому шведу будто к мальчишке, называла его Петей. Перебивая друг друга, они рассказывали о своей недавней поездке в Стокгольм и особенно восторгались глубоко развитым у шведов чувством привязанности к своей земле и корням.
Седовласый благовоспитанный Петя молчал, но с таким видом, словно его умиляла наивная впечатлительность собеседников, и он из великодушия не хотел их ни в чем разочаровывать. Писатель из Лондона посматривал на него с понимающим видом.
Постепенно разговор коснулся извечных в России тем. Пока речь шла – ни много ни мало – о мировой культуре, Христофорыч, принимавший активное участие в беседе, вроде бы со всем соглашался. Но как только заговорили о родном, русском, он забыл о всякой сдержанности – было заметно, что на душе у него наболело.
О проекте
О подписке
Другие проекты