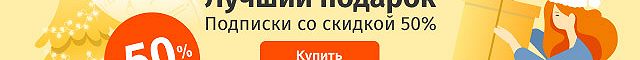
XLVII
ФИЛАНТРОПКИ
В Петербурге есть совсем особенная коллекция великосветских дам, поставивших задачею своей жизни филантропию. Они как будто взяли исключительную привилегию на благотворительность и, таким образом, составили нечто вроде цеха филантропок. Великосветские филантропки подразделяются на многие разряды. Одни из них памятуют речение Писания «о скотолюбцах»: «Блаженни, мол, иже и скоты милуют», и на этом основании всем сердцем возлюбили своих кинг-чарльзов и левреток, причем, однако, стремятся к учреждению общества скотолюбцев, но только «стремятся» покамест – и больше ничего. Другие и понаслышались кое-каких верхушек о женском труде и мечтают о составлении общества поощрения швейных, переплетных и иных мастерских, где бы они могли быть «председательницами» и оказывать начальственное влияние на весь ход избранного дела. Третьи заботятся о «падших» (но об этих мы будем говорить впоследствии). Четвертые избрали ареной своей филантропической деятельности остроги, тюрьмы и вообще все наши места заключения. Пятые… Но если пересчитывать всех, то, пожалуй, и целой главы будет недостаточно для самого краткого упоминания многоразличных отраслей нашей жизни, дающих пищу праздно-чувствительной деятельности великосветских филантропок. Полезней всех из них, бесспорно, четвертые, иже унаследовали заповедь Писания о посещении во узах заключенных. Эти между множеством чудачеств хорошее творят, насущную пользу иногда приносят, а прочие…
Прежде всего каждая светская филантропка отличается своею превыспренней набожностью, которая у иных переходит даже в фарисейское ханжество, но этак ведь гораздо заметнее и потому, значит, гораздо почтеннее: говору и благоудивления больше. Как тут не сотворить доброго дела, когда заранее знаешь, что сотни голосов будут превозносить тебя паче облака ходячего, будут называть тебя своим ангелом-хранителем, спасителем, целителем и проч., станут повествовать о твоих великих добродетелях везде и повсюду, вынимать частицы за твое здравие. Как хотите, а ведь очень лестно и соблазнительно.
Дама-филантропка, кроме непременного благочестия, всегда стремится занять в свете такое место, которое давало бы ей вес и значение. Она в ладах со всеми сильными иерархического мира, и сильные мира постоянно изъявляют ей знаки своего почтения. Она непременно надоедает каждому из них своими еженедельными и беспрестанными ходатайствами, просьбами, справками и проч.; сильные мира хотя и морщатся про себя, хотя и досадливо губами прицмокивают, тем не менее в глаза ей показывают предупредительную готовность исполнять малейшее ее желание, даже каприз – ну и исполняют, иногда «по силе возможности», а иногда и по силе невозможности. Стало быть, так или иначе, дама-филантропка достигает своей цели; иногда она счудачит, а иногда и действительно доброму, честному делу поможет. Только это «иногда» выходит у нее как-то без разбору, без нравственной оценки качества патронируемого дела – точно ли оно хорошее и честное или плутяжное, которое только прикидывается честным? – лишь бы список «добрых дел» ее пополнялся все более, лишь бы увеличивалось число «благословляющих» ее добродетели.
Каждая дама-филантропка очень любит проявление набожности в покровительствуемых субъектах. Набожен – стало быть, хорош; почтителен к ее особе – и того еще лучше, а коли к тому же да бойким языком благодарственные восклицания рассыпает – тут уж конец всем рассуждениям: филантропка берет его под свое покровительство и зачастую во что бы то ни стало стремится создать нового молельщика за себя перед Господом[4].
XLVIII
АРЕСТАНТЫ В ЦЕРКВИ
Интересный вид представляют арестантские камеры в утро перед обедней какого-либо праздника или воскресного дня.
Народ как будто приободрился, вымылся, прихолился, и каждое затхло-серое арестантское лицо невольно как-то праздником смотрит. У кого есть своя собственная ситцевая рубаха, попавшая сюда какими ни на есть судьбами, помимо казенного контроля, тот надел ее на себя, подпоясался мутузкой, аккуратно складки обдернул, и сидит она на нем не в пример ловче и наряднее, чем грубо-холщовая сорочка из тюремного цейхгауза, – все-таки волю вольную хоть как-нибудь напоминает. У кого галстук или гарусный вязаный шарф обретается, тот его вокруг шеи обмотает и ходит себе щеголем по камере.
– Ишь ты, праздник! – замечают иные с оттенком какого-то внутреннего удовольствия.
– Нда-с, праздник! – в том же тоне откликается какой-нибудь другой арестантик. И все они очень хорошо знают, что праздник сегодня, а замечания, подобные только что приведенным, вырываются у них как-то невольно, от некоторой полноты душевной.
Мишка Разломай да татарин Бабай глядят серьезно, хотя они чуть ли не довольнее всех остальных: знают, что ради праздника иному лишнюю рюмочку хватить хочется, лишнюю ставку в кости да в карты прокинуть, лишнюю трубочку табаку в печную заслонку вытянуть, а это все им на руку, потому к ним же придет всяк за такими потребами: кто чистыми заплатит, а кто и сам еще в долг на процент прихватит – стало быть, в конце концов у Разломая с Бабаем скудные арестантские деньжишки очутятся.
– Может, братцы, пищия для праздника Христова получше сготовится, – замечают некоторые.
– Авось либо приварок не сухожильный положат да по порциям на столы поделят.
– Эвона чего захотел!
– Что ж, иной раз случается. Опять же и по закону.
– Толкуй ты – по закону!.. Нешто на арестанта есть закон? На то, брат, мы и люди беззаконные прозываемся.
– По всей Расее закон есть.
– Это точно! Закон положон, да в ступе истолчен – вот он те и закон!
– Никак без закону невозможно; почему, ежели что расказнит меня, так статья и пункта должна быть на это.
– Ну, то не закон, а пятнадцатый том прозывается.
– А не слыхал ли кто, милые, подаяньем нонче будут оделять?
– Будут. Саек, сказывали, инеральша какая-то прислала.
– Ой ли?! Кто хочет, братцы, сайку на табак выменять? С почтением отдам.
– А много ли табаку-то?
– Да что… немного; щепоть, на три затяжки.
– Ходит! Давай, по рукам! Для праздника можно.
Среди таких разговоров растворяется дверь и входит приставник.
– Эй, вы, живее!.. В церковь! В церковь марш! Все, сколько ни есть, отправляйся! – возглашает он с торопливой важностью.
Иные поднялись охотно, иные на местах остались.
– Ты чего статуем-то уселся? Не слышишь разве? – обращается то к одному, то к другому приставник.
– Да я, бачка, татарин… мугамеда я.
– Ладно, провал вас дери! Стану я тут еще разбирать, кто жид, а кто немец. Сказано: марш – и ступай, значит.
– Да нешто и жидам с татарами тоже? – замечает кто-то из православных.
– Сказано: всем, сколько ни есть! Начальство так приказало – чтобы народу повиднее было – нечего баловаться-то… Ну, вали живее! Гуртом, гуртом!
– Ну-у… Пошло, значит, гонение к спасению! – махнули рукою в толпе, и камера повалила в тюремную церковь[5].
Арестантский хор в своих серых пиджаках, который с час уже звонко спевался в столовой, наполнил клирос; начетчик Кигаренко поместился рядом с дьячком у налоя. Вон показались в форточках за сетчатыми решетками угрюмые лица секретных арестантов, а на хоры с обеих сторон тюремная толпа валит с каким-то сдержанным гулом, вечно присущим всякой толпе людского стада. Там и сям озабоченно шнырят приставники, водворяя порядок и стараясь установить людей рядами.
– Ну, молитесь вы, воры, молитесь! – начальственно убеждает один из них.
– Да нешто мы воры?.. Воры-то на воле бывают, а мы здесь в тюрьме, значит, мы – арестанты, – обидчиво бурчат некоторые в ответ на приставничье убеждение.
Вот показалась и женская толпа в своих полосатых тиковых платьях. Тут заметнее еще более, чем в будничные дни по камерам, некоторое присутствие убогого, тюремного кокетства; иная платочек надела, иная грошовые сережки, и все так аккуратно причесаны, на губах играет воскресная улыбка, и глаза бегло отыскивают в мужской толпе кого-то – вот отыскали и с усмешкой поклон посылают. Пожилые держатся более серьезно, солидно, и на лицах их ясно изображается женское благочестие, а иные стоят с какой-то угрюмой апатичностью, ни на что не обращая внимания. В этой толпе не редкость, впрочем, и горячую, горькую слезу подметить порою, и усердную молитву подглядеть.
Мужчин размещают по отделениям, которые и здесь сохраняют официальную классификацию по родам преступлений и проступков; но во время первоначальной легкой суматохи по приходе в церковь так называмые любезники ловко стараются из своих отделений затесаться незаметно либо на «первое частное», либо на «подсудимое», чтобы стать напротив женщин, с которыми тотчас же заводятся телеграфические сношения глазами и жестами. «Любезники» обыкновенно стараются на это время отличиться как-нибудь своею наружностью и являются по большей части «щеголями», то есть пестрый платок или вязаный шарфик на шею повяжет да волосы поаккуратнее причешет – другое щегольство здесь уже невозможно, – а многие из них, особенно же «сиделые», достигают необыкновенного искусства и тонкого понимания в этом условном, немом разговоре глазами, улыбкой и незаметными жестами. Началась обедня. Внизу было совершенно пусто: у стен ютился кое-кто из семей тюремной команды, да начальство на видном месте помещалось. Ждали к обедне графиню Долгово-Петровскую, на которую двое заключенных возлагали много упования.
Эти заключенные были – Бероева и Фомушка-блаженный.
Наконец в начале «Херувимской» внизу закопошилось некое торопливое и тревожно-ожидательное движение в официальной среде. Церковный солдат почему-то счел нужным поправить коврик и передвинуть немного кресло, предназначавшееся для ее сиятельства, а начальство все косилось назад, на церковные двери, которые наконец торжественно растворились – и графиня Долгово-Петровская, отдав начальству, пошедшему ей навстречу, полный достоинства поклон, направилась к своему креслу и благочестиво положила три земных поклона.
XLIX
ФОМУШКА ПУСКАЕТ В ХОД СВОЙ МАНЕВР
– Братцы! Не выдайте!.. Дайте доброе дело самому себе устроить! Все деньги, что есть при себе, на водку вам пожертвую, не выдавайте только! Не смейтесь! – шепотом обратился Фомушка-блаженный к окружающим товарищам.
– На што тебе? – осведомились у него некоторые.
– В том все мое спасение; на волю хотца! – объяснил им Фомушка. – Коли сиятельство спрашивать станет, скажите, по-товариству, что точно, мол, Христа ради юродивый.
– А насчет магарыча не надуешь?
– Избейте до смерти, коли покривлю! Избейте – и пальцем не шелохну!.. Человек я верный.
– Ну ладно, не выдадим, скажем, – согласились некоторые.
– А ты, Касьянушка-матушка, – ласкательно обратился он к безногому ежу, – размажь ей по писанию, при эфтом случае, как то исть нас с тобой за правду Божию судии неправедно покарали…
– Смекаю! – шепнул ему старчик, догадливо кивнув головою.
Фомушка самодовольно улыбнулся, хитростно подмигнул окружающим товарищам: глядите, мол, начинаю! – и, выбрав удобный момент, когда перед выходом с дарами замолкла среди всеобщей тишины «Херувимская», грузно бухнулся на колени с глубоко скорбным, тихим стоном и давай отбивать частые земные поклоны, сопровождая их бормотанием вполголоса различных молитв и такими же вздохами.
Арестанты едва удерживались от смеховых фырканий, взирая на эти «занятные» эволюции.
Графиня обратила на него внимание и с удивлением повернула вверх на хоры свою голову.
Фомушка истерически взвизгнул и, бия себя в перси кулачищем, с тихим рыданием простерся ниц, как будто в религиозном экстазе.
Графиня продолжала смотреть. Начальство, заметив это, тотчас же засуетилось и отдало было приказ – немедленно убрать Фомушку из церкви, но благочестивая барыня милостиво остановила это усердное рвение и просила не тревожить столь теплой и глубокой молитвы.
Желание ее, конечно, было исполнено.
Фомушка меж тем до самого конца обедни время от времени продолжал выкидывать подобные коленца, и графиня каждый раз с удивлением обращала на него свои благочестивые взоры…
Бероева же все время стояла прислонясь к стене, так что снизу ее не было видно. Она вся погрузилась в какую-то унылую думу и, казалось, будто ожидала чего-то.
«Ah, comme il est religieux, се pauvre prisonnier, comme il pleure, comme il souffre![6] – мыслит графиня. – Надо будет расспросить его, за что он страдает… Надо облегчить участь…»
И по окончании обедни она обратилась к начальству:
– За что у вас содержится этот несчастный, который так тепло молился всю службу?
– По подозрению в краже-с, ваше сиятельство…
– Может ли это быть?.. Я решительно не хочу верить.
– Так аттестован при отсылке к нам. Состоит под следствием вместе с сообщником своим – может быть, ваше сиятельство, изволили приметить – горбун безногий.
– А, как же, как же – приметила!.. Так это, говорите вы, сообщник его… Но может ли это быть? Такая вера, такое умиление! Я желала бы видеть обоих.
– Слушаем-с, ваше сиятельство.
И к графине были приведены оба арестанта.
Фомушка еще в ту самую минуту, как только сделали ему позыв к сердобольной филантропке, умудрился состроить юродственную рожу и предстал перед лицо ее сиятельства с выражением бесконечно глупой улыбки. Касьянчик, напротив того, выдерживал мину многострадательную и всескорбящую.
– Гряди, жено благословленная, гряди, голубице, на чертово пепелище! – забормотал блаженный, улыбаясь и крестясь и в то же время издали крестя графиню.
Последняя никак не ожидала такого пассажа и – не то испугалась, не то смутилась.
— Как тебя зовут? – спрашивала она кротким вопросом.
– Добродетель твоя многая, перед Господом великая – царствие славы тебе уготовано, – продолжал крестить себя и ее блаженный, нимало не обратив внимания на вопрос графини.
– Что ты такое говоришь, мой милый, не понимаю я, – заметила она, стараясь вслушаться в Фомушкино бормотание.
– Да воскреснет Бог и расточатся врази его! – юродствовал меж тем блаженный со всевозможными ужимками. – Раба Анастасия – новый Юрусалим, узорешительница милосердия!.. Фомушка-дурак за тебя умолитель, царствия отца тебе упроситель… Живи сто годов, матка! Сто годов жирей, не хирей! Господь с тобою, алилуя ты наша, сиятельство ваше!.. сиятельство!..
– Mais il est fou, се malhereux![7] – домекнулась графиня и обратилась с вопросом к Касьянчику: – Что он – юродивый?
– Юродивенький, матушка, Христа ради юродивенький, – жалостно запищал убогий старчик.
Графиня поглядела на Фомушку удивленным взглядом. Она была чересчур уж благочестива, так что злые языки титуловали ее даже «сиятельной ханжой», и очень любила посещать Москву с ее сорока сороками. Каждое такое посещение не обходилось без усердственных визитов к знаменитому Ивану Яковлевичу Корейше. Московский блаженный всегда отличал от прочих свою сиятельную гостью и, как говорят, постоянно давал ей знамения своего благоволения к ее особе: откусывая кусок просфоры, он влагал его в уста графини. Рассказывают также, будто для вящего изъявления своего благоволения к графине он еще и не такие курьезы проделывал над нею. Чествуя Ивана Яковлевича, она, конечно, чествовала и других юродивых.
– Как тебя зовут, мой милый? – повторила она прежний вопрос.
– Дурачок, дурачок, матка! Дурачком зовут, Фомушкой. А у тебя утробу-то благостью вспучило, благостью, матка, а я за тебя умолитель, душа милосердливая: Фомку-дурака любит Господь, Фомушка – Божий дурак, только в обиде от силы мирстей…
– По Господней заповеди, ваше сиятельство, – начал пояснять многострадательный Касьянчик, – яко же апостоли от эллины нечестивии гонения претерпевали, такожде и он, Божий человек, за напраслину ныне крест несет на раменах… А только он неповинен: он – Христа ради юродивый, мухи ниже, клопа ползучего николи не обидит, а не токмо что от человека татебно уворовать вещию! Ему коли и подаянье-то сотворят во имя Спасителево, так он и то, дурачок, возьмет да тут же на нищую братию разделит, а сам – ни-ни, то ись ни полушечки себе не оставит…
Фомушка во время этого монолога только улыбался наибессмысленнейшим образом, с беспрестанными поклонами, творил крестные знамения, осеняя таковыми же и графиню.
– За что же вас взяли? За что вы терпите? – спросила Настасья Ильинишна.
– По злобе людстей, вашие сиятельство! Зол человек оговор возвел, – пояснил ей Касьянчик и рассказал историю о том, как приказчик купца Толстопятова, имея на Фомушку злобу за то, что блаженненький уличений в гресех ему многажды творил, мимоходом взял да и подсунул-де нам толстопятовский бумаженник, а сам туточко же и завопил: «Воры-де вы, хозяина мово обокрали!»
– Тут нас и взяли, – продолжал он рассказывать, – воззрился я только к небеси, на церковку Божию, воздыхнул и прегорестно залился слезами: «Господи! испытание на веру нашу посылаеши – буди по восхотению твоему!» И сдали нас в темницу, в темницу, матушка, вашие сиятельство!.. Охо-хошеньки!.. А какие мы воры? Мы в странныем-убогом житии подвизаемся, имя Христово славословим, а нас злоба-то людская вона в кои наряды нарядила.
О проекте
О подписке
Другие проекты