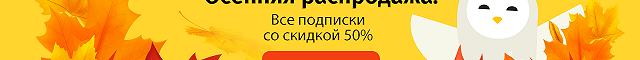
Бар у Тома – злачное место
Я оставил дом Адама и направился через Жнин на Иновроцлав. На летнем ветру шелестели тополя, многие поля были уже убраны, было самое время для походов на восток, как сказал бы тесть Адама. Это была земля Пястов, первой польской династии. Повсюду были грубо вырезанные из дерева исполинские всадники, подобные тому, мимо которого я как раз проходил, его изношенный щит был раскроен пополам, словно какой-то великан ударом меча рассек его сверху вниз. Польская любовь к рустике. Я сидел за массивным крестьянским столом со свечой в резном подсвечнике, пил польское пиво, ел толстые польские сардельки, а потом уединился в обитой деревом комнате.
Хохензальца – так назывался Иновроцлав в немецкое время – появился за полями под вечер после долгого марша, я вошел в него через парк отдыха, и, казалось, город все еще оставался тихим соляным курортом, о чем свидетельствовало его немецкое название. Единственная гостиница возникла здесь для того, чтобы путешественники не чувствовали себя чужаками. Строгий конструктивизм с буковой отделкой смягчили каплей индивидуальности, украсили изящным шрифтом, добавили щепотку характерности и приправили радушием, будто веточкой петрушки. Эта гостиница могла бы оказаться в любой точке мира, где останавливаются наблюдатели ООН, инспектирующие выборы. Что совершенно не означало, что она была лучшая из встретившихся на моем пути.
Я нашел единственный ресторан со столиками на улице и стал в нем единственным посетителем. Одновременно с едой явились три ребенка-попрошайки: девочка и два мальчика. Все трое были худыми, дикими и невероятно шустрыми. Самым напористым оказался младший, лет девяти, хотя его глаза казались на десять лет старше, а кожа, как у всех уличных детей, была землисто-серой, не темневшей на солнце. Он повис на заборе, набросился на меня, как маленький юркий зверек, мгновенно исчезающий с добычей в кроне дерева, и заговорил на языке, который мне прежде никогда не доводилось слышать, состоявшем из односложных восклицаний: «фик!», «зак!», «ман!» и тому подобных.
Малыш не мог знать, что сидящий за столом человек тоже подчинялся своим животным инстинктам. Я был голоден, мне было не до шуток. Я провел весь день в пути и съел только плитку шоколада, я защищал свою пищу и отгонял вора прочь от тарелки. Ошибкой было то, что я делал это вслух: троица тут же поняла, что имеет дело с иностранцем. Они скрылись за углом и вернулись, вооруженные новыми словами. Младший вопил: «Мани! Мани!» и недвусмысленно потирал большой палец указательным. Когда это не принесло успеха, он вскочил на забор, вытянулся, насколько мог, и накинулся на мою тарелку. Добычи ему досталось совсем немного: ел я быстро.
Я отправился в спортбар на другом конце рыночной площади и взял себе пива. Коротко стриженный толстый парень приставал к визжавшей девице, пытаясь накрыть ее сачком для ловли бабочек. Играла британская поп-музыка, быстро надвигались сумерки, прохожий звал свою собаку: «Дэмон! Дэмон!»
Холодный пот выступил у меня на лбу, когда я заметил, что в бар вошла пухлая девица, сегодня в полдень сидевшая передо мной в деревенском автобусе. Автобус шел в Жнин, – я проехал немного, когда начался дождь, – я запомнил ее, поскольку произошло нечто странное. Девица вдруг оказалась снаружи автобуса, – я увидел, как она шла мимо, – при этом я был абсолютно уверен, что автобус не останавливался. Мне сделалось не по себе. Я оставил свое пиво и отправился в бар «У Тома». Бар «У Тома» в Хохензальце – злачное место, музыка там такая же отвратительная, как и посетители, и еще там дают, не спрашивая, полулитровый жбан пива. Его я тоже оставил на стойке и пошел в бар «2+1». Там было лучше, люди сидели за столиками, покрытыми красными, зелеными и желтыми скатертями, – я выбрал желтую – были даже человеческих размеров бокалы с пивом, и я перестал ощущать себя бродягой.
Быстро придя в себя, я направился в четвертый бар, без названия. Тут снова были пивные жбаны, что меня уже не волновало, поскольку я обнаружил музыкальный автомат. Я перекидал в него всю свою мелочь, выбрал десять раз подряд «Nothing Really Matters»25 и говорил что-то своему жбану и Мадонне: что именно, назавтра я вспомнить не смог. Этот новый день опять был прекрасным, небо – синим и белым, а Иновроцлав – самым расчудесным городком, который только можно себе представить.
Несколько часов спустя я сидел на водосточном люке у обочины и размышлял о том, что иду по кругу. Куявско-Поморское воеводство нисколько не выглядело восточнее страны за Одером с ее бесконечными сосновыми лесами, оно казалось более западным. Более холмистым, опрятным, густонаселенным, менее сельским – идти здесь было гораздо труднее. Мне хватило с лихвой пыли и грязи, летящей в лицо из-под колес грузовиков. Я отыскал на карте дорогу, где, по моему предположению, движения было меньше, и это меня страшно обрадовало, ведь от моих точных карт обычно было мало толку. Польские улицы, как паутина, разбегаются от больших и маленьких центров, у меня ни разу не получилось найти параллельный путь: такого просто не существовало.
Неширокая дорога поворачивала у консервной фабрики «Бондюэль», нанизывала на себя пару деревень и превращалась в дорожку, которая, согласно карте, шла через Быдгощскую пущу к Торуню. Едва я повернул, как рядом притормозил фиат «Бамбино», его водитель спросил, не нужно ли меня подвезти; мне не хотелось видеть озадаченную физиономию и отвечать на вопросы, поэтому я сказал, что мне недалеко, он все понял и уехал. Через час я добрался до деревенской усадьбы Липе. Господский дом выглядел непритязательно, но парк был большим, окруженным высокой стеной; мне пришлось почти всю ее обойти, чтобы отыскать вход. Все были в поле. Я вошел в парк, кинул на траву рюкзак, рубашку и сапоги и растянулся под развесистым буком. Тишину нарушал только гусиный гогот и шум, доносившийся от зернохранилища, надо мной шелестел, заполняя небо, perpetuum mobile веток и листьев. Когда я закрывал глаза, пробивавшиеся сквозь них солнечные лучи набегали на меня красными, карминными, шафрановыми потоками. Кто-то хрипло рассмеялся у меня за спиной и загородил собой солнце.
Я приоткрыл глаз и увидел человека со скошенным набок ртом, он сверлил меня взглядом и протягивал мне руку. Я обернулся, и деревенские дети, которые подползли совсем близко и следили за мной все время, с воплем бросились в кусты. Кривой по-прежнему протягивал мне руку, я пожал ее, он вдруг развернулся с довольным видом и пошел прочь. Это был местный дурачок, стремившийся пожать руку всем в деревне. Я был снова один в траве и под кронами деревьев, но теперь полуденный свет слепил меня, что-то постоянно кусалось и жалилось. Я знал кое-что о парке и доме, который прятался за старыми деревьями, – от мысли о том, что именно здесь все и произошло, мне стало не по себе.
Усадьба принадлежала семье Розенштиль. Первый Розенштиль переселился в Пруссию из Эльзаса. Он преуспевал, но отказался от предложенного ему дворянского звания, ему казалось, что это ни к чему. Лишь его сын принял дворянство, семья получила за свои заслуги владение в Одербрухе, а потом некий король пожаловал другому Розенштилю еще одно имение на востоке Пруссии, в парке которого я и лежал. После первой мировой войны Липе стала польской, и по примеру пруссаков, которые заселяли своими людьми владения в завоеванных землях, поляки теперь выдворяли прусских землевладельцев, в их числе были и Розенштили. По рукам ходили черные списки с именами влиятельных немцев, дошло до кровавых столкновений, – отголоски этого слышны даже сегодня. Возможно, польский национализм развился так радикально, потому что пруссаки немало преуспели в том, чтобы перемешать народы. Польский кучер Розенштилей, во всяком случае, с гордостью носил железный крест, а на полях, через которые я шел, во время ноябрьской революции стреляли друг в друга немецкие спартаковцы и польская кавалерия. Немцы хотели экспортировать на эту землю свою революцию, но сама польская гордость восстала против докатившегося сюда немецкого бунта, поскольку он казался чем-то прусским.
Летом 1939-го последний Розенштиль из Липе уже вырыл себе могилу, у которой его собирались расстрелять26, когда немецкие пикирующие бомбардировщики показались в небе – это было начало польской кампании. На этот раз он был спасен. Но когда война повернула вспять, и Советская Армия несколько лет спустя заняла Липе, ему уже не помогло то, что польские конюхи заступились за него и сказали русским: «Добре пан». Это хороший господин, он многим помог. Советские солдаты его не пощадили. Его сын рассказал мне эту историю, прежде чем я перешел Одер. Он снова живет теперь в первой семейной усадьбе.
После Липе я прошел мимо деревенских домов, по которым было видно, что их жителям живется неплохо. У многих вместо огородов перед домом были разбиты английские газоны, а один даже заменил статую Девы Марии на двух гипсовых греческих богинь, купленных на строительном рынке. Другой поставил перед входом в дом белые средиземноморские колонны.
Я наткнулся на щит с предупреждающей надписью и разобрал два слова: армия и смерть. Всякий, кто идет дальше, вероятно, значилось там, может попасть под обстрел, но это был очень ржавый щит, и я подумал, что его не следует принимать всерьез: всего лишь запретная военная зона, ничего особенного. Я шел вдоль опушки и повсюду натыкался на такой же ржавый щит. О возвращении не могло быть и речи, это значило удлинить свой путь на целых полдня, а сегодня вечером я рассчитывал уже переправиться на восточный берег Вислы и выйти к Торуню именно из Быгдощской пущи. Мне сказали, что той же дорогой шли тевтонские рыцари и видели, как готический шпиль Торуньской башни медленно появляется над пущей.
На протяжении нескольких часов мне никто не встретился, тишина соснового леса нарушалась только криками сарыча или сойки. Мой путь шел сначала по песчаной дорожке, затем – по изъезженной просеке. Идти стало сложнее, это было похоже на бег по дикому песчаному пляжу, но лес того стоил. Он не был сумрачным, он был светлым, просторным и холмистым. Какое-то время я шагал по танковой дороге, сделанной из уложенных в два ряда бетонных плит. Лес поредел, и я в послеполуденный зной вышел в поле. Промежутки между остановками сделались короче, я все время снимал с себя одежду и держал вещи на ветру, слегка пригибавшем высокую траву, доходившую мне до пояса. И хотя было очень жарко, мне пришло в голову развести огонь, чтобы высушить над ним рубашку и брюки, все время прилипавшие к телу, – так бы получилось быстрее, чем на солнце. Я уже собрал хворост, но вовремя одумался и бросил его: ветер превратил бы костер в степной пожар.
Возникло ощущение, что я становлюсь все легче и легче, подобно моему рюкзаку, который перед Одером был снова решительно выпотрошен. Я приближался к состоянию, когда имеет значение лишь одно – идти, и когда вместо обычного «почему?» в висках стучит только «вперед!». Войска в таком состоянии подчиняются приказу. У меня были мои челюсти, которые перемалывали воздух и остатки слюны, и пока они это делали, все было в порядке. Когда я достиг другого края поля, мое нёбо стало картонным, а язык превратился в ластик, фляжка с водой опустела еще перед запретной зоной.
Первое, что я увидел, были люди, которые прогуливались с детьми или выгуливали собак, они во все глаза смотрели на меня, а я во все глаза смотрел на автобус: он подождал на остановке с работающим мотором и тяжело тронулся с места. Я хотел куда-нибудь, где можно вдоволь напиться. Сейчас. Немедленно. Но водитель дал газ и отъехал. Он не мог меня не заметить, я видел, как он следил за мной в большое боковое зеркало. Появилось такси, я махнул рукой, водитель притормозил, окинул меня взглядом, жестом показал, что ему нужны деньги, и умчался прочь. Я выругался, пошел по улице, купил на заправочной станции воды и пока пил, увидел свое отражение в оконном стекле и стал лучше понимать водителей. Я совершенно не выглядел платежеспособным.
Перейдя мост, я едва взглянул на готическую мечту, Торунь, казавшийся большой студенческой пивнушкой, Гейдельбергом на Висле, где большие компании молодых людей в огромных количествах пили пиво в каком-нибудь из многочисленных заведений. Я раздобыл себе комнатушку и разделил ее с железным монстром из тренажерного зала, по давнишнему праву занимавшим половину площади. Я использовал его как сушилку для белья и развесил на нем свои влажные вещи. Я плохо спал и проснулся разбитым. Над моей продавленной кроватью висела странная карта. Польша была крышей мира, плоской крышей. Слева Северогерманская низменность клонилась к Атлантическому океану, справа русские дали опрокидывались в бесконечность. Я повернул голову на бок и начал медленно соскальзывать вниз.
О проекте
О подписке