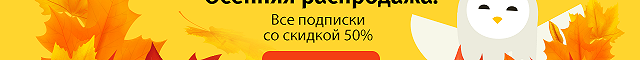
У костра
Передо мной была Польша. Сидя на плотине, я наблюдал, как из двух фабричных труб на том берегу Одера вытекает дым, густой и солидный, будто в старой оптимистической кинохронике, он поднимался все выше и выше, как черное знамя, затем налетел западный ветер и погнал его далеко на восток. Я обернулся в сторону Германии, где солнце на закате еще раз осветило битые кирпичи дома сезонных рабочих, расположенного у основания плотины. Дым, ветер, низкий сгорбившийся старый дом – на мгновение я ощутил запах зимы, ожидавшей меня впереди, далеко-далеко, на других берегах. Взошла африканская луна – огромный апельсин, повисший над Одербрухом. Сразу за садом, окружавшим кирпичный домик, начинались поля. Косули шуршали, подбирая плоды. Отсюда началось наступление на Зееловские высоты, и война так обильно удобрила землю, что охотники за военной амуницией до сих пор копались в поисках касок, оружия и орденов.
Там на высотах жил старый солдат. Сегодня утром я сказал ему, куда направляюсь, и он меня обругал: «Вы гоняетесь за фантазией, молодой человек, вы просто фантазер! Я был летчиком, я перевозил раненых от Ладожского озера в Кенигсберг. Мой «Ю» делал двести километров в час, я летел пять-шесть часов. Лес, лес, ничего, кроме леса, тысячи километров леса, а до Москвы еще вдвое дальше. Чего вы хотите? Ищете работу? Идите ко мне на поле и с моими деньгами летите себе потом в Москву, впрочем, чушь, лучше всего летите-ка вы не в Москву, а на Майорку».
Я позвонил ему из телефонной будки на обочине, не зная точно, чего, собственно, от него хочу. Я ответил, что не полечу на Майорку и не буду работать на его поле, и он продолжил меня ругать: «Зачем вы ищете смерти? Вы не пройдете даже через поляков, они забьют вас насмерть. И дальше – ах, бросьте, пока вы доберетесь до Москвы, вы погибните трижды. Ноги сводит судорогами, это свыше человеческих сил, вы останетесь лежать в уличной яме, никто вас не подберет. Если бы у вас, по крайней мере, был спутник. Да вы сошли с ума!»
Я спрашивал себя, чего мне от него нужно, и отвечал: мне нужен был жест, одно слово, словесный амулет. Что-нибудь, способное меня защитить, что-нибудь, благодаря чему призрак моего деда опознает меня при встрече. Я хотел получить благословение старого солдата. Но он мне его не дал – я повесил трубку, положив конец его проклятиям, и пошел дальше. Возможно, это меня расстроило бы, если не еще один неожиданный телефонный разговор, который меня занимал настолько, что заставил сойти с шоссе и привел через Горгаст сюда, на Одер.
В доме сезонных рабочих, скрытом теперь темнотой, жил один человек, с ним я познакомился больше двадцати лет назад: он был восточным немцем, а я – западным. Мы встретились в Восточном Берлине, на не запомнившемся мне спектакле в театре Брехта. После этого мы потеряли друг друга из виду. Вчера вечером в гостинице, пролистывая брошюру о прусских следах в Одерланде9, я обнаружил его имя и номер телефона. Анонс извещал о его выставке, он был художник. Раньше он жил на самой восточной окраине Восточного Берлина, в маленьком домике, весьма похожем на этот, расположенном в саду, полном складных стульев и незаконченных деревянных скульптур. Только теперь он жил на самом краю Германии, а не Берлина, забраться еще восточнее было просто невозможно. При этом он совсем не был романтиком, скорее ученым естественнонаучного склада. На мой первый вопрос по телефону – что тебя привело сюда? – он ответил, что у каждого своя программа, и, когда обстоятельства благоприятствуют, она выполняется.
Мы сидели на поле, где шелестели косули, он развел костер, который теперь медленно угасал, спустилась ночная прохлада, холодный воздух ластился к нашим голым ногам и нагревался от еще не остывших кирпичных стен, он пах травой, сеном, мусором и прочими земными вещами. Художник говорил о домашних делах, которые нужно было завершить до зимы, о работе в Берлине, о благотворной удаленности от Берлина, и рассказывал о других местных переселенцах; среди них были потомки знати, переехавшие сюда спустя пятьдесят лет после изгнания их семей, они иногда покупали его картины. Все это было необычно и удивительно: у моей игрушечной марклиновской страны10 появились обширные окрестности, снова возникли окраины, полупустые восточные провинции. Берлин находился в двух днях пути от меня, и я ощущал себя погруженным в мир Эрнста Вихерта11, в котором оставивший столицу художник и потомки исчезающего поместного дворянства приглашали друг друга на чай, и я теперь ясно видел, что Вихерт был меланхоличным братом Марка Твена: гекльберрифинново настроение с кошками и тетками, речкой и лунным светом было все-таки по своей сути очень немецким, особенно это чувствовалось здесь, в Остэльбии12. Костер догорел, мы затоптали тлеющие угли, огромный апельсин поднялся выше и превратился во вполне сносную июльскую луну. Это надолго стало моим последним впечатлением от Германии.
На другое утро я произвел инвентаризацию и долго разбирал вещи, пока мой красивый новый рюкзак не опустел. Я оставил его здесь, взял взаймы потертый, старый, наполовину меньше, и сложил в него рубашку, брюки, пару носков (другую рубашку, брюки и пару носков я надел на себя), а также почти ничего не весивший дождевик, шерстяной свитер, который мне пригодится холодной русской осенью, бритвенные принадлежности, тетрадь с записями, карты и спальный мешок. Самое важное было у меня на ногах – сапоги. Этот рюкзак прилегал к спине совсем по-другому. С ним можно было отправляться в путь. Теперь я уже в самом деле был готов: только сейчас, думал я, все начинается всерьез.
Под выцветшим летним небом я шел к границе. На Аллее Повешенных не было теперь ни единого дерева и она называлась улица Дружбы. Она вела прямо к Одеру. Отсутствие тени, жара и прямизна дороги давали заранее почувствовать ожидавшую меня бескрайность Востока. В течение получаса я шел вдоль края одного и того же пшеничного поля, а до этого – между полями подсолнухов. Молодые люди промчались мимо меня в шикарном автомобиле так, словно были в бегах. На кладбище в Китце я лежал под липами и каштанами, наблюдая, как улитка взбирается на могильную плиту Эмиля и Мины Мунк. Жена пережила мужа на двадцать два года.
Никто мной не заинтересовался, когда я переходил Одер. Из-за наводнения течение было быстрым, река несла ветки деревьев, которые она прихватила на своем пути из Силезии. Бурля и клокоча, спешила она между заброшенными, покрытыми паутиной казармами на немецкой стороне и дремлющим под полуденным зноем пограничным пунктом на восточном берегу. Несколько минут на мосту раздавались мои шаги, и вот я уже в Польше. Показалась мощная крепость из красного кирпича, на самой вершине крепостной стены сидел парень и смотрел на поток.
Есть Кюстрин и Кюстрин: нынешний и настоящий. Первый из них – сразу налево, он обозначен дорожными знаками и завешен ценниками, но я проигнорировал шанс запастись освежающими напитками и свернул направо, в заросли. Через несколько шагов я оказался у мощной городской стены, возведенной в том же стиле, что и увиденная с моста крепость. Ацтекское по масштабам сооружение из прусского кирпича. На табличке значилось: заповедник для летучих мышей. Что-то шлепнуло по воде. Рыбак бросил приманку в зеленую от водорослей воду крепостного рва. В стене были ворота, я прошел через них и оказался перед широкой песчаной дорогой. Она вела прямо в центр, и только обочина из больших гранитных плит указывала на то, что эта дорога когда-то была главной улицей исчезнувшего города, а эти неровные плиты служили ее тротуаром. Фазан выпорхнул из высокого кустарника, буйно разросшегося по обеим сторонам улицы. Когда я отодвигал ногой ветви, показывались полуразрушенные фундаменты некогда лучших домов Кюстрина, их обрушившиеся погреба, доверху заполненные запасами земли и мусора. Вымощенная булыжником улочка стороной пробиралась сквозь заросли к большой яркой надписи «Макдональдс», сиявшей в Новом Кюстрине, однако именно здесь, где на высокой мачте развевался польский флаг, раньше стоял замок. Ацтекское настроение сохранялось. Было безветренно. Флаг висел, как увядший цветок агавы на высоком стебле. Это отнюдь не прусские Помпеи, как называли некогда Кюстрин. Не римский день, вырванный по прихоти богов из полнокровной жизни. Скорее доколумбов упадок – заросший, оставленный и забытый плод столетнего равнодушия, а не вулканическая прихоть одного-единственного утра.
Я вошел в призрачное пространство исчезнувшего замка, прошел по его призрачным коридорам, постоял в его призрачных залах – из всего этого здесь сохранился только обгоревший фрагмент дубового паркета. Я подошел к окну, во всяком случае, когда-то здесь была стена, а в стене – окно. Оно выходило во двор замка. Возможно, это было именно то окно, у которого ранним утром появился кронпринц Фридрих13: его заставили, это было частью наказания – стать свидетелем событий, вскоре произошедших внизу. Фридрих в слезах просил фон Катте о прощении, а тот вел себя мужественно перед лицом смерти, – об этом с одобрением сообщает в Берлин его духовник, возмущенный отцом-тираном, который выдумал жуткую сцену в качестве мести, а заодно и воспитательной меры для принца. Фон Катте надеялся остаться в живых. Он до последнего верил, что ему сопутствуют благоприятные знаки; а то, что впоследствии все вышло иначе, вряд ли пошатнуло его мировоззрение. Он отважился не только поддерживать молодого человека, будущего наследника трона, в его личном эскапизме, но и планировал вместе с ним побег в Англию. Он знал, что это преступление. В блеклом утреннем свете 6 ноября 1730 года оказалось, что оно карается смертью. «Je meurs pour vous, mon prince, avec mille de plaisirs. Ради Вас, мой принц, я гибну с великой радостью», – крикнул он вверх, к окну, прежде чем на его голову обрушился меч правосудия.
Гекльберрифинново настроение из сада художника не проходило еще целый день и целую ночь. Шелестели каштаны. Шумели реки. Я лежал на траве. Одер и Варта соединялись как раз под бастионом, у которого я задремал: сон замка захватил и меня. Я проснулся. Парень, которого я заметил в самом начале, все еще сидел на прежнем месте. Загоревшее лицо, разметавшаяся соломенная шевелюра и потрескавшиеся губы придавали ему вид юнги с Миссисипи, которым он очевидно не был, поскольку не собирался заботиться о своем корабле, – он постоянно смотрел через реку на запад, как будто чего-то ждал. Я был бы рад, если бы он ждал где-нибудь еще, ведь ночь была теплой, а место хорошим, у меня не было других планов, и хотелось остаться здесь. Я спустился вниз к круглосуточному бару у границы, чтобы купить воды и шоколада, подождал, пока влюбленные парочки скроются из развалин, забыл о фальшивом юнге и решил быть единственным человеком в Кюстрине.
Я проснулся от сорочьей трескотни и поднимающейся от воды утренней прохлады, вытащил карту Польши, провел прямую длиной в семьсот километров от Кюстрина до Белостока, мысленно прошел севернее Познани к готическому Торуню, перешел Вислу, преодолел путь через Восточную Польшу до белорусской границы, перебрался на другую сторону к Гродно, встал на ноги, потянулся, заметил, что бродяга исчез, обернулся еще раз к Германии, взял рюкзак – и захлопнул за собой эту дверь.
О проекте
О подписке