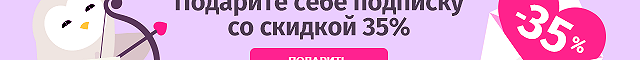
– Ну что вы? Пусть действительно одну выпьет, – предложил Егор Дмитриевич. – Это лучше, чем с пацанами в подъезде.
– Будешь? – Людмила ещё раз спросила дочь.
– Ты серьёзно? – не верила Света.
– Да. Давай сюда стакан. – Люда взяла наполовину наполненный стакан с соком и сама подлила туда немного водки. – Отцу ни слова!
– Вы тоже, – попросила Света и заулыбалась, блеснув брекетами.
И все выпили. Света для приличия немного покашляла в кулак, Николай Иванович сердито нахмурился, будто сделал что-то плохое и чувствовал себя виноватым, а Люда совсем растворилась в прохладном воздухе, сделалась незаметной и сама никого не замечала. Гомозин по мере опьянения настраивался на ностальгический лад, угадывая в лице Светы свою детскую влюблённость, и теперь в пьяном помутнении чувствовал, будто эта невинная любовь возвращается к нему, но подходит с другой стороны. Это было не стремление к новому, как детская и юношеская влюблённость, – это была тоска по ушедшему; и Гомозин теперь этой тоской упивался, и ему даже нравилось её тормошить и кормить. Конечно, это никакой любовью не было – Егор Дмитриевич лишь чувствовал глухое подвывание где-то в груди, которое испытывает человек, смотрящий прекрасный сон и смутно догадывающийся, что всё это ему только снится. Гомозин действительно сейчас пребывал в каком-то полусонном состоянии, и ему хотелось не очнуться, но уснуть совершенно. Он вдруг вспомнил, как они с Леной когда-то вместе смотрели фильм и она, держа его за руку, уснула у него на плече. Сквозь сон она стала дёргаться и вырывать у него руку, а он, поцеловав её в лоб, спросил: «Что ты, зайка? Капкан приснился?» Она сразу же успокоилась, улыбнулась, крепче сжала руку и ещё крепче уснула. Егор Дмитриевич часто вспоминал этот вечер, когда чувствовал, что делает что-то неправильное. Он таким образом наказывал себя, как бы заставляя соседствовать в своём сознании одно из приятнейших воспоминаний о жене со свежей мыслью о другой женщине или дурном поступке, словно оскверняя одной мыслью другую. Обыкновенно, вспомнив этот вечер, Гомозин становился смурным, уходил в себя и не вступал в сношения с внешним миром, но теперь почему-то ему сделалось тепло и спокойно от этого воспоминания. До сих пор, думая о жене, он насильно заставлял себя испытывать чувство вины за то, что он может жить, а она – нет; и чтобы вину эту как-то искупить, не беря греха на душу, он старался не жить полной жизнью, чтобы быть с ней «на равных». Верно говорил Николай Иванович, подумал Гомозин, что вернуться к жизни поможет Бог, ведь если он есть, то Лена продолжает жить, а значит, можно жить и ему, Гомозину. И Бог теперь будто дал о себе знать, решил Егор Дмитриевич, ведь, как он сам считал, Бог – это случайные совпадения. Встреча с детской влюблённостью через двадцать пять лет и проломленная крыша сарая – разве не та самая случайность? Не «режиссёр» ли сталкивает нас с жизнью лбами? Думая об этом, Егор Дмитриевич забыл уточнить для себя, с кем конкретно его сталкивает «режиссёр»: с Людой или Светой; потому что не видел в этом никакой важности. Если сталкивает, то сталкивает с жизнью, но не с человеком. И думал он теперь об этих женщинах как о марионетках в руках судьбы, но не как о живых людях с волей. И о себе тоже стал думать не как о человеке со свободой воли, а как о кукле, управляемой кем-то извне. И Гомозину хотелось довериться этому «кому-то», отдать ему управление, ведь «он лучше знает», ведь так легче, так спокойнее. Однако позже, протрезвев, Егор Дмитриевич смеялся сам себе и своим инфантильным пьяным мыслям, стыдился и отгонял их.
– Мы, с вашего позволения, дамы, выйдем покурить, – зачем-то с загадочной интонацией произнёс Гомозин.
– Я бы с вами, – проснулась Люда.
– Идите, я не хочу, – проворчал старик.
– Пойдёмте тогда, Людочка. Ведите, – встал из-за стола Гомозин и пропустил женщину вперёд.
Едва он встал, Света пересела ближе к Николаю Ивановичу и о чём-то стала с ним разговаривать. Издалека они были похожи на двух шушукающихся, хохочущих подружек.
– Хороший у вас участочек, – сказал Гомозин, поджигая сигарету о ещё горячий уголь в мангале.
– Лучше спичкой – уже остыли, наверное, – следила за его сигаретой Люда.
– А вот и нет! – обрадовался Егор Дмитриевич затлевшей сигарете. – Давайте я вам тоже зажгу – так вкуснее.
– Давайте. – И Людмила протянула ему дамскую сигаретку.
– Вот, держите, – вернул он ей её. – Ценители сигар вообще рекомендуют зажигать их от естественного огня – никаких зажигалок. И спичек тоже будто никаких. От камина – самое лучшее.
– Почему? – спросила Люда.
– Ну, будто газ из зажигалок как-то влияет на вкус.
– Если бы вкуса вообще не было, то да. А так – какая разница?
– Вам вкус сигарет не нравится? – спросил Гомозин.
– Нет, – ответила Люда, выдыхая дым.
– А зачем тогда курите?
– Привыкла.
– А мне нравится вкус.
– Молодцы, – ответила Люда.
– Вам что-нибудь через ваши очки видно? – спросил, помолчав, Гомозин.
– Это чтобы не щуриться, – ответила ему Люда. – Чтоб морщин не было.
– А если зрение упадёт?
– А этого никто, кроме меня, не увидит. И с чего ему вдруг падать? – Людмилу слегка пошатывало – видно, охмелела. И смотрела она ровно в одну точку на заборе, не глядя на Гомозина.
– Ну, мне кажется, света недостаточно для глаз. Вы ведь очки даже в беседке не снимали.
– Хватает мне света, – отрезала она. – Наоборот, всё чётче видеть начинаешь. – Люду очевидно раздражали эти нападки на её привычки, потому что её пытались убедить, будто она отчего-то должна чувствовать себя некомфортно; и её в этот момент стало бесить гостеприимство мужа. А Гомозин мысленно смеялся себе, как он мог в детстве любить такую косную, неинтересную женщину; и теперь, пьяный, чувствовал себя победителем в каком-то соревновании и смотрел на Люду свысока.
– Ну, меня-то вы не узнали – значит, со зрением уже проблемы начались.
Люда повернула голову к Егору Дмитриевичу и пристально уставилась на него, задрав одну бровь.
– А мы встречались раньше? – с какой-то брезгливостью в голосе спросила она.
– Встречались, – улыбнулся Гомозин. Люда выжидающе смотрела на него, опасаясь какого-нибудь компрометирующего коварства. – Спина перестала болеть? – спросил её он.
– Будто ничего, – осторожно отвечала она.
– На массаж когда в последний раз ходили? – продолжал Гомозин.
– Пару лет, – ещё сильнее насторожилась Люда и вся сжалась.
– Ну? Не узнаёте? – Гомозин стал вертеть головой, чтобы она могла его рассмотреть.
– У меня девочка массажистом была, – сказала Люда, медленно повернувшись к нему боком.
– А я подменял её пару раз, когда она заболела, – не сдавался Гомозин. – Вы курите-курите, а то вся истлеет. Ну, не узнаёте?
– Кажется, – задумалась Людмила. – Егор Дмитриевич?.. Правда? Вы? – стала узнавать его она и задышала чаще.
– Ну, – обрадовался он, расплывшись в улыбке.
– А как вы?.. Вы же из Москвы?.. – совсем терялась женщина.
– А я заезжал мать проведать на пару месяцев и заодно подработал. Я курсы массажистов оканчивал.
– Как я вас не узнала-то? – развела руками и замотала головой Люда. – Вот это да! А вы поседели.
– И поредел, – добавил Гомозин.
– Да-да. Шевелюра у вас была такая. Жёсткие волосы были, – вспоминала она человека, выдуманного Гомозиным.
– Ничего? Помог массаж? – спрашивал, улыбаясь, Гомозин.
– Да, всё теперь хорошо, – терялась Люда. – А чего вы сразу не назвались?
– А всё ждал, пока вы сами узнаете.
– Коварно, Егор Дмитриевич. Тут ведь муж, дети, – сказала она дрожащим голосом. – Ну я ведь вас в сторонку отвёл, – сказал он, поняв, что наткнулся на гнойник.
– Хорошо хоть так, – прошептала она и обхватила левой рукой локоть.
– Люда, Людмила. – Гомозин положил ей руку на плечо, и она мелко задрожала. – Я шучу над вами. Никакой я не массажист.
Она уставилась на него испуганными, ничего не понимающими глазами.
– Я это всё придумал, – продолжал убеждать её он; но по её виду было понятно: она не верит ему. – Слышите? Я говорю, что пошутил.
– Откуда вы про массаж знаете? – спросила она его серьёзно.
– Я не знал, я просто предположил, – улыбался виноватой улыбкой он.
– Какое точное предположение! – сощурила глаза Людмила.
– Осторожнее, Людмила: морщины выступят, – сказал он и расхохотался. Она тоже засмеялась несколько истерическим смехом.
– Скажите правду: откуда вы знаете? – резко перестала смеяться она и навела на него жалостливый взгляд.
– Люда, я клянусь вам, никакой я не массажист! Я это выдумал, – пытался убеждающе говорить он, не отнимая руки от её плеча, но звучал как типичный мошенник.
– Как вы могли так точно попасть? – всё не верила Люда. – Это проще простого. Почти каждый человек после тридцати лет страдает проблемами со спиной. У нас ведь сидячий образ жизни. Не хотите кого-то расстроить тем, что забыли его, – просто спросите, как его спина, и всё будет хорошо. Чем старше человек, тем больше шансов не прогадать. – По мере объяснения Людмила успокаивалась.
– А массаж?
– Ну, если бы у меня болела спина, я бы наверняка походил на массаж, – сказал Гомозин, широко улыбаясь. – А внешность мою вы сами подогнали под массажиста. Это психология. Я вас насильно в этом убедил. Главное – играть поубедительнее.
– Блин! – крикнула она и, ударив ладонью Егора Дмитриевича по груди, истерически рассмеялась. – Вы меня чуть заикой не оставили, – дрожащим от смеха голосом говорила она.
Егор Дмитриевич приобнял её и прижал лицом к своей груди.
– Извините, – хохотал он. – Я не думал, что так точно попаду.
– Больше так не делайте, – попросила Людмила, и Гомозин почувствовал, что она плачет. Он отнял её от себя и, положив руки Людмиле на плечи, виновато заглянул ей в лицо.
– Ну что вы? Не плачьте. Я всего лишь пошутил. Это безобидная шутка.
– Ничего, я сейчас, – стеснялась она своих слёз и продолжала смеяться.
– Ну всё-всё, всё хорошо. Я обыкновенный московский дурак. – Гомозину не хотелось, чтобы кто-нибудь застал его на месте преступного доведения женщины до слёз.
– Всё, всё, я скоро закончу. – Людмила задирала взгляд и часто моргала, засовывая пальцы с длинными ногтями под оправу очков. – Это истерика называется.
– Правда, извините меня. Я не ожидал такой реакции. У меня и платка с собой, как назло, нет. Рукав сгодится? – спросил он и протянул к ней свою руку с порванным рукавом. Она, отвернувшись, рассмеялась ещё сильнее. – Так. Вы мне скажите, что делать? Не смешить пока? – бубнил Гомозин, а она вновь подверглась приступу истерического смеха. – Господи, осторожнее! Ведь от такого смеха и тромб оторваться может.
– Пожалуйста, – смеялась она, – чуть-чуть тишины! Я сейчас закончу.
– Молчу, всё. А от смеха действительно давление повышается. И может тромб отойти, – вошёл в кураж Егор Дмитриевич.
– Егор! – зло закричала Людмила и продолжила смеяться. – Дмитриевич! – добавила она.
– Чщ-чщ-чщ… – Он стал гладить её по голове. – Спокойно. Дышим. За водичкой, может, сбегать? Где у вас вода? В колодце?
– Пожалуйста, ничего не надо, – смеялась она. – Вы создаёте принуждённую обстановку.
– Всё, молчу-молчу. Сейчас создам непринуждённую. Какой у вас смех очаровательный! – выпалил он.
– Ну пожалуйста! – Ею овладел новый приступ смеха. – Прекратите! Я сейчас задохнусь. Это уже не смешно.
– Так не смейтесь, – предложил ей Гомозин.
– Спасибо за предложение, – стала спокойнее дышать она.
– Вот-вот, хорошо. Теперь закройте глаза, – успокаивающим голосом заговорил Гомозин, и она закрыла. – Представьте себе красный шарик, качающийся на волнах. Представьте озеро, горы, лес. Вспомните детство, юность. Представьте капли. Кап. Кап. Кап. Лучше?
– Лучше, – выдохнула она.
– Теперь представьте какой-нибудь нудный процесс. Будто вы на машинке печатаете. Или варежки вяжете. Пропалываете огород. Да-а-а… Вырываете сорняки с корнями, а они между пальцами давят. Чуть ли не режут. А земля под ногти лезет. Влажная земля, прохладная. Всё. Постепенно возвращаемся в действительность. Представляем меня. Рваный плащ, проседи, плешь. Всё?
– Всё, – сказала Люда и, открыв мокрые глаза, шмыгнула носом.
Гомозин молча смотрел на неё и улыбался.
– А мы ведь с вами действительно встречались. Ещё в детстве. У озера…
– Ну ладно, пойдёмте в беседку, – перебила его она и, слегка улыбнувшись, нежно подтолкнула его. – На сегодня хватит истерик.
Николай Иванович, когда Люда с Гомозиным вошли в беседку, что-то активно изображал жестами, а Света, искренне выпучив удивлённые глаза, ахала.
– Что, Николай Иванович, – обратился к старику Гомозин, – про МММ рассказываешь?
– Накурились? – спросил в ответ он.
– Мама? – Света уставилась на Люду, когда та уселась на своё место, совершенно забыв про рассказ Николая Ивановича.
– Что? – шмыгнула она носом.
– Чего случилось? – тихо спросила Света, щекой ощущая взгляд Гомозина (она не стала пересаживаться, и он сел на её место).
– Это я её до слёз довёл, – виновато прощебетал Егор Дмитриевич.
– Он преувеличивает, – сразу поспешила объяснить Люда.
Николай Иванович гневно посмотрел на Гомозина.
– Ты чего, Егор, обалдел? – грубо спросил он.
– Это у меня нестабильная психика, – всё продолжала оправдывать Егора Дмитриевича Людмила. – Он ничего не сделал. Просто рассмешил.
– Рассказал страшную историю, каюсь, – сказал Гомозин, обращаясь к Свете. – И уже сто раз извинился и двести раз проклял себя.
– Что за история? – спросила Света.
– Про массажиста… – начал было говорить Егор Дмитриевич.
– …и про боли в спине, – закончила за него Люда.
– Точно всё хорошо? – спросил её старик. – А то мы быстренько перевоспитаем. – Было видно: он сильно охмелел.
– Всё прекрасно, – убеждала Люда. – Вы кушайте лучше мясо, пока не остыло. Давайте я вам положу.
Гомозин выпал из обсуждения и задумался. Семья, сперва показавшаяся ему крепкой и сплочённой, по-видимому, была таковой только номинально. Люда, выглядевшая заботливой матерью и доброй хранительницей очага, на деле скрывала грязную тайну от своих родных и, видимо, с каждым днём сокрытия становилась всё психопатичнее, подозрительнее и всего боялась. В детстве, когда он следил за тем, как Миша её обнажает, Гомозину казалось, что она идеал чистоты и женской нежности; теперь же этот образ трансформировался в грязную гедонистку и лгунью. По всей видимости, у неё было много мужчин, помимо Миши, раз она не помнит внешности любовника. «Зачем, – думал он, – стоило связывать себя союзом с мужчиной, которого, по-видимому, не любишь, и обрекать тем самым на несчастье его, себя и будущих детей?» Егор Дмитриевич, конечно, не знал и не мог знать подробностей их отношений, но ему казалось, что она коварно обманывает бедного Мишу и бедных детей, и ему становилось жалко и детей, и Мишу. Миша был добрым человеком, который, по-видимому, желал своим близким счастья, а она от этого счастья отказывалась. Гомозин пытался отогнать от себя эти мысли, которые, как он сам понимал, были навеяны ему водкой и парой слов, брошенных пьяным человеком (к тому же он мог не так эти слова понять), но ему почему-то казалось, что мысли эти были справедливы. В конце концов он укрепился во мнении, что справедливыми ему эти мысли показались лишь потому, что он давно затаил обиду на эту девушку, не ответившую ему взаимностью на невинную детскую любовь, о которой она и не догадывалась и из-за которой её ухажёр сломал ему удочку. И Гомозин посчитал себя глупцом и мерзавцем, поставившим крест на человеке из-за своих детских обид и комплексов.
О проекте
О подписке