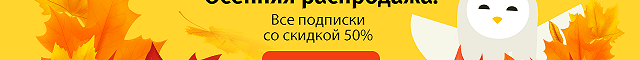
Светит месяц
В пионерском лагере, где Марик провёл два последних лета перед переездом в Ленинград, очень любили танцевать. Танцевали много – в основном бальные танцы с весёлыми нерусскими названиями: па-де-катр, па-д-эспань, па-де-патенер (может быть, написано с ошибками). Марик больше всего любил па-де-патенер. Его всегда объявляли так: «Па-де-патенер – мама комсомолка, папа пионер!» В лагере иногда появлялся – приплывал на плоту по Волге – один очень интересный, можно сказать, необычный мальчик по имени Виталька Конопелька. Необычен для Марика он был тем, что был сиротой – раз, мог приплыть в лагерь на плоту – два. Да и фамилия, согласитесь, тоже не совсем обычная – Конопелька.
Через много лет до Марика дошёл слух, что Виталька работает ассистентом у знаменитого циркового борца и силача Григория Новака. А в тот раз Виталька приплыл не один, а с приятелем. Вечером он сказал:
– А сейчас мы с (имя того мальчика не запомнилось)… станцуем вам па-де-патенер, – они взялись за руки, стали танцевать и петь на мотив «Светит месяц».
Вот что они спели:
Светит месяц, светит ясный.
Возле булочной, колбасной
Мальчик с девочкой стоит И
о чём-то говорит:
«Я, – говорит, – тебя, – говорит, —
Люблю, – говорит, – ужасно.
Но, – говорит, – любовь, – говорит, —
Моя, – говорит, – напрасна.
Ты, – говорит, – ходи, – говорит, —
Ко мне, – говорит, – почаще,
И, – говорит, – носи, – говорит, —
Конфет, – говорит, – послаще!»
И всем было весело и смешно.
Сейчас – спустя полвека – весьма постаревший Марик выходит ночью из своей квартиры под звёздное иерусалимское небо, затуманенным взглядом смотрит на непривычно подвешенный лунный серп и поёт:
– Светит месяц, светит ясный возле булочной, колбасной… – и далее по тексту.
А что потом? – А потом в точности по Мандельштаму:
«Всё исчезает. Остаётся
Пространство, звёзды и певец».
19 мая 1998
Долго и счастливо
Арсенал ухаживаний был Мариком полностью исчерпан. По спине портфелем бил? Бил. После школы – регулярно. «Лариска – дура!» на перемене ей кричал? Кричал. С ледяной горки сталкивал? Снежками кидался? И сталкивал и кидался. И что? И ничего. То учительнице пожалуется, то разнюнится. А вот чтобы сказать в ответ: «Сам дурак!», что означало бы недвусмысленное признание в ответной склонности – нет! И все тут.
Вот что бы ты сделал на месте бедного, учащегося в I-om классе, влюблённого мальчика, читатель? Впал бы в отчаяние? Правильно. И Марик впал в отчаяние. А впав в отчаяние, читатель, что бы ты сделал ещё, а? Возопил небесам? Правильно. И Марик возопил к небесам. А поскольку он был маленьким ещё мальчиком, то, впав в отчаяние от равнодушного стука калитки, закрывшейся за жестокосердной – нет! вовсе бессердечной Лариской, он возопил к небесам естественным для него способом, то есть, взял камень и запулил его в пустые, равнодушные, чуждые его горю небеса! И пустые эти и равнодушные – равнодушно вернули его вопль-камень на землю – туда, за высокий забор, и, судя по крику боли, раздавшемуся за забором, не просто об землю стукнулся немалый этот камень, но об неё, об голову жестокосердной. «А-ах», – откликнулся жалостью в Марике этот крик, – и бежал он, жалеющий и жалкий, прочь, прочь от того забора.
На следующий день коротко стриженная голова телесно мелкой Лариски за первой партой отсутствовала. А на второй день появилась – забинтованная.
– Как ты себя чувствуешь, Лариса? – спросила учительница. – Я думаю, что вы должны подать на Марика, – она сказала не имя, а фамилию, – в суд.
Вечером отец Марика уже всё знал. Будучи командиром производства, семейные вопросы он решал, как производственные: короткий допрос – заушение – приговор. Идти просить прощения. Немедленно (благо не далеко: в двух шагах – напротив). В качестве конвоя – сестра. Вот так, читатель. Не на вороном коне, цокая подковами по лестнице её двухэтажного каменного (в отличие от марикова одноэтажного и деревянного) дома, и не в окружении задушевных боевых друзей Чапаева и Чкалова – а во вретище, с сестрой, свидетельницей позора. Конечно, именно для этого – ибо знал отец, что Марик не уклонится, сделает и не соврёт – послана была сестра. «Извини, я больше не бу…» и «Прощаю, прощаю» – даже не дослушавшей его извинений смущённой (не такая уж и жестокосердная, выходит) Лариски Марик помнит так, как будто это было вчера. Но кроме того, что он помнит, он еще и знает сегодня то, чего не знал тогда. А не знал он тогда, униженный и жалкий, что не только чувство вины и унижения нёс он на своих плечах, но еще и то, что один мудрый человек назвал «правом сокрушенного сердца». И что после смущённого Ларискиного прощения мог Марик воспользоваться этим своим правом и сказать:
– Прости меня, Лариса. Я не хотел сделать тебе больно, – просто я был в отчаянии, что ты ушла. Мне так хотелось, чтобы ты осталась со мной. Мне так нужна была твоя любовь.
И тогда, может быть, что-то настоящее почувствовавшая Лариска сказала бы ему:
– Ну и дурак же ты, Марик, – и они бы жили долго и счастливо и не умерли никогда.
5 июля 1998
Туда и обратно
Когда до берега осталось метров пять, мама сказала:
– Ну, всё, можно возвращаться, поворачиваем.
И они, мама с Мариком, повернулись и пошли назад через всю Волгу, к своему берегу, где метрах в двухстах от воды стоял их дом.
Марк не помнит, какой был месяц, но помнит, что было холодно. Не ему, он был тепло одет, но день был холодный. Они шли по толстому, это было видно, льду, внимательно обходя полыньи, – не с подтаявшими, мягкими, как весной, а с жёсткими, словно бы металлическими, краями.
Спустя лет двадцать Марк вспомнил этот эпизод и спросил у мамы, зачем они тогда переходили Волгу, ибо – он помнил это точно – до другого берега так и не дошли.
– Одна старушка посоветовала, – сказала мама. – У тебя был коклюш, – это Марк помнил, – она сказала, что надо перейти туда и обратно через ледяную реку. А коклюш у тебя прошёл.
Совпадением это было, или одно (переход через Волгу) обусловило другое (выздоровление), неизвестно, и смысла гадать нет. Некто однажды объяснил Марку, что лечение коклюша требует специфической атмосферы – воздуха, соприкасающегося то ли с водой, то ли со льдом (но обязательно на реке), так что в их с мамой походе резон был, причём рационально объяснимый. И с этим Марк спорить не стал. Самому ему, однако, кажется, что смысл данного действа был даже не символического, а, скорее, магического свойства. То есть, в данном случае замерзшая Волга символизировала (неточное, даже неправильное слово), если сказать точнее, как бы являлась в контексте этого акта Стиксом или Ахероном – короче, той самой речкой в Царстве Мёртвых, которую человек («человек», разумеется, условно) пересекает только однажды и только в одну сторону. Иначе говоря, смысл тут, по версии (или догадке) Марка, был не во льде, воздухе или, тем более, расстоянии, а только и только в обратной дороге к дому. Именно возвращение домой через волжский этот Ахерон было возвращением к жизни, к полноценности (в нашем случае, к выздоровлению) – без коклюша.
Можно ли это проверить? Проверить, полагал Марк, можно, но в силу ряда причин, а проще сказать, в силу природы вещей, результаты этой проверки обнародованы быть не могут. Поэтому сейчас Марк может только представлять себе, как однажды (о времени принципиально не говорится) он окажется в такой же, так сказать, местности, где, озираясь по сторонам, сможет увидеть – и узнать – уже когда-то виденные им картины. Он может также представить себе, что в какой-то точке пути будет остановлен и спрошен. И вот тогда, – в нервной, что естественно, сутолке, – вздрагивая и вспоминая, он достанет изо рта медную монету и опустит её в протянутую, опять-таки условно говоря, руку, – что и явится последним и окончательным доказательством правильности его догадки.
19 июля 1998
Обухово, на кладбищах твоих
В первое лето после переезда в Ленинград, семья Марика снимала дачу в поселке Славянка, по московской (в смысле направления, «Октябрьской» по названию) железной дороге. Одноэтажные деревянные дома, не асфальтированные дороги – раздолье для босых ног, каждодневные походы на речку Молоканку, которой следовало бы называться не по молоку, а по какао – таков был цвет ее воды, да нет в русском языке подходящего красивого слова. Плюс к тому время долгих каникул между весенней и осенней учебой – вообще самое, может быть, счастливое в жизни. Родители Марика были люди общительные, часто ходили в гости, а ещё чаще принимали у себя. Как правило, собирались они в Славянке такой вот интернациональной компанией: русская пара, татарская – и там и там, помнится, не было детей и – естественно – их, еврейская, с детьми: Мариком и его сестрой. Именно в таком составе поехали они в Обухово, поселок по той же железной дороге, неподалеку от Славянки. Поехали по приглашению русской семьи – на обуховское русское «Преображенское» кладбище – по случаю «родительского дня», то есть, дня, когда русские люди ходят на кладбище помянуть похороненных там родных. На кладбище было оживленно. На могилах были расстелены газеты с провизией, водкой, и сидящие вокруг люди с аппетитом всё это употребляли. Также расположилась и наша кампания. Общество, следует отметить, было спитое. Русская его часть пила, как положено, то есть много. Татарская – как ей не положено, то есть, тоже много. А еврейская – в опровержение известного русского мифа о том, что «евреи не пьют» – пила не меньше собутыльников, а могла – и больше. По какой-то странной русской традиции водки всегда берется меньше, чем надо (может быть, правда, что выпивают всю – сколько ни возьми, а может, есть особый кайф в том, чтобы добавить), и через некоторое время компания всем составом пошла к магазину за добавкой. Рядом с кладбищем был магазинчик, типичное «сельпо», маленький, крашенный салатного цвета, местами облупившейся, краской, перед которым уже собрались две-три сотни жаждущих. Магазинчик, несмотря на праздник, был закрыт на обед, народ ждал, нервничал, колбасился. И естественным для данных обстоятельств образом приключилась, говоря словами Зощенко, драка. Минут через пять после того, как данная драка приключилась, дралась воя площадь перед магазином. Дрались азартно, по-праздничному весело и буйно, с рваньем своих и чужих тельников, визгом женщин, но – не жестоко, без привлечения подручных средств, ногами никого, как нынче принято, не добивали. Наши дамы, как и большинство жен, довольно скоро вытащили своих мужей из потасовки, и на поле боя остались только энтузиасты, но и их пыл довольно скоро увял; драка, слегка еще пополыхав, выдохлась, стихла, сошла на нет. Скоро опять установилась очередь, а поскольку, как уже было сказано, никого не убили и даже не покалечили, то очередь не только не уменьшилась, но и выросла за счет зевак и естественного – с кладбища – пополнения. Энтузиазм наших взрослых насчет добавить поостыл, да и «детям пора спать», да и «завтра рано на работу» – и компания распалась, добирались домой порознь. Всё-таки гигантское это побоище оставило неприятный след и, обмениваясь репликами насчет того, что «гоим без этого (то есть, праздничного мордобоя) не могут» – в каком-то смысле и направляемые этими репликами, – родители Марика двинулись, отец вёл, в сторону еврейского кладбища, находившегося от русского неподалеку – через железнодорожные пути. Позже об этих соседствующих кладбищах Марик напишет стихотворение (А пока ещё до него далеко. Далеко даже до стихотворения Иосифа Бродского, которое он напишет о еврейском кладбище, вошедшем к тому времени уже в городскую черту). Так Марик в первый раз оказался на еврейском кладбище. Тут можно ещё добавить, что Марик и вообще впервые оказался в месте, которое можно было бы однозначно характеризовать этим словом: еврейское. В школе он чуть ли ни все одиннадцать лет был единственным евреем в классе, ни в синагоге, ни в однородно еврейских компаниях не бывал.
Было уже поздно. На кладбище не было ни души. В ясном темно-синем небе висела яркая луна – невысоко над куполом синагоги (позже Марк узнал, что это не синагога, а дом омовений). Они прошли по центральной аллее – не далеко. Марик обернулся, увидел залитое лунным светом необычное здание, группу памятников и склепов рядом с ним, аллею – запомнил и навсегда вобрал это в себя. Вообще, о евреях Марик знал мало. «Мы, евреев…» – иногда вздыхала бабушка, привычно путая падежи. На этом кладбище у Марика не было похоронено никого из родных. Было тихо. Отец, любящий комментировать, молчал. Как всякий советский мальчик, воспитанный на Хоттабыче с Синдбадом – мореходом, Марик немало знал о мусульманском Востоке – здесь было иное. Иное, никогда до этого не виданное, непонятное, волнующее – и почему-то своё. И это своё овевало Марика особым своим древним воздухом, проникало в него через подошвы его обутых в маленькие сандалии ног. Несколько лет после этого – до смерти деда – Марик там не бывал. Потом хоронил бабушку, потом родственников и знакомых, просто приходил на могилу проведать своих, кладбище узнал ближе и лучше.
О проекте
О подписке