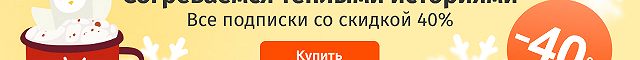
К исходу третьего часа (за все это время роженица не умолкла ни на минуту) Позаправдашняя баба без чьей-либо помощи и точно по известному с прежних родов расписанию, предчувствуя их финал, сменила позу (так и не показав при перевороте лица), встав на четвереньки, задом к нам, она возобновила крик, который мы теперь слышали еще и в полной темноте, ибо обязаны были закрыть глаза в тот самый миг, как зад рожающей оказывался ровно перед нами, ослушников (их называли «Увидевшие»), слепили раскаленными иглами, не оставляя вариантов увидеть в этой жизни что-либо еще, дальнейшее зависело от слепца, и, если вдруг он не желал молчать, то ножницы избавляли его от языка, а топор – от кистей и даже стоп, чтобы ни один из Увидевших не смог никоим образом описать другому то, что ему открылось, поэтому, как выглядит зад и тем паче место, откуда выходят порфироносные дети, мы не знаем, а те, кто знал, сказать не могут, остается догадываться и предполагать, опираясь на ощущения смутные, едва ли достоверные, ибо зад Позаправдашней бабы в начале четвертого часа, как показалось, занял пространство гораздо больше кровати, на которой до этого покоился, утверждение это опиралось на тепло, можно сказать, жар, который хлынул в нашу сторону, едва мы закрыли глаза, как будто его источник – раскаленная до бела печка, он в равной степени шел по всей ширине дворцовой залы и был настолько мощным, что к началу пятого часа вызвал в стране (от западной до восточной границы) таяние снегов, приведшее вскоре к раннему в том году половодью, другим побочным следствием разворота Позаправдашней бабы к народу стало также раннее (минус месяц от обычного) возвращение перелетных птиц (они появились как-то вдруг и все разом, будто и не улетали вовсе), с того момента крик ее не был одинок – оранжированный многочисленными голосами пернатых, он приобрел особенное величие, наполнившее нас гордостью за то, что мы являемся свидетелями события, движущего реки и тварей небесных, даром что видеть нам его не дано, лишь ощущать тепло, исходящее от священного лона, и многие (ох, многие) в тот момент забылись и, пукая от переполнявшего их счастья, пополняли ряды неизвестных и презренных, и только испорченный воздух (кое-где и несколько дней спустя) напоминал о былом величии, вдруг заполнившем душу простого смертного так, что он не смог совладать с ним и поделился с другими, поделился неосторожно, поделился в последний раз.
Меж тем Позаправдашняя баба на седьмом часу наконец приступила к финалу действа, ее методичные, сопровождаемые громкими (в полтора-два раза громче обычных) криками потуги воздушными волнами передавались нам, сбивая отдельных неопытных зрителей с ног, бывалые, сплетаясь под локти в многотысячную цепь, держались из последних сил, но и здесь случались (пусть кратковременные) завалы – потуги роженицы давали эффект взрыва бомбы, оглушая и калеча, вслепую мы восстанавливали единство, моля про себя, чтобы всё поскорей и благополучно закончилось, но только в начале восьмого часа Позаправдашняя баба отблагодарила нашу верность – издав, как оказалось, последний, оглушивший многих до контузии крик, она, напрягшись, что есть силы выбросила из себя в нас младенца, который, пробив, словно был каленым ядром, тринадцать рядов (да упокоятся души праведников с ангелами), был пойман, как мяч, на четырнадцатом, роженица умолкла и тяжело повалилась на бок, исчезнув на какое-то время в перинах, одеялах и подушках, умолк и Y, умолк, чтобы по кровавому следу найти новорожденного и, выхватив младенца из рук оторопевшего счастливца («Четырнадцатый» с того дня покинул наши ряды и на время стал вхож в круг ближний), вернулся к ложу, на котором покоилась жена/мать, незаметная глазу, она какое-то время ничем не напоминала о себе, пока из-под одной из верхних подушек не показалась одна из грудей, на появление которой отозвался новорожденный, до этого не издавший ни звука, – Его то ли «гу», то ли «му» вызвало у нас невероятный восторг, теперь уже кричали мы, а Позаправдашняя баба молчала, замолчал и младенец, приложенный к груди, Он получил первую пищу, которую следом по заведенному обычаю получили и мы – вторая грудь, показавшись из постельного завала, за час с четвертью оросила страну священным млеком, наполнив молочные реки и выстелив масляные берега, после чего двери и окна спальни закрылись, а мы год без малого жили как сыры, жили у бога за пазухой, все это время Z, названного так по элементарной очередности, не отнимали от груди Позаправдашней бабы, она кормила Его днем и ночью, позволяя себе лишь на мгновение прерваться: меняя груди каждый час, она тут же, в постели, вместе с младенцем на пару ела, пила и справляла нужду, большую и малую, – тогда непосвященным стало ясно, зачем столько всего заблаговременно навалено в парадной зале и на брачном ложе, простыни, одеяла, подушки, матрасы выкидывали и сжигали по мере порчи, стараясь делать это маленькими партиями, так как большие костры находили не без основания опасными для жизни подданных, ведь, по слухам, часть простынь и одеял Позаправдашней бабы Просто дети (по предложению «Верховного Просто ребенка», то есть счастливого папеньки, знавшего не понаслышке, о чем речь) не без успеха использовали в тот год, прорвав удушливыми газами без малого целый фронт – не имея средств защиты (обычные оказались бесполезны), враг панически бежал, посмевшие вдохнуть единую каплю дыма превращались в непрерывную рвоту и погибали в страшных мучениях: «погиб от Бабы» – значилось в донесениях противника, «от Духа Свята» – поправляли мы.
Спустя год и не днем позже кормящая отбросила сына на руки ожидавшему ее Четырнадцатому, уже имевшему удачный опыт ловли – за этим он был и нужен, содержась весь год на усиленном пайке, тот отнес младенца Отцу, последнее, что Z видел, было то, как мать, встав с постели, закрутила хула-хуп – огромный металлический обруч, принесенный накануне взводом дюжих Просто детей, как пушинка парил вокруг необъятных бедер Позаправдашней бабы, «что ж, ей время подумать о себе, когда еще», – услышал Z Отца, следом ощутив его руки, вдруг поняв, что все это время держался за соски матери сам, она совсем не поддерживала его руками, «а есть ли они», – закралась вдруг мысль и захотелось вернуться и узнать, как оно на самом деле, но Отец, сопровождаемый Четырнадцатым, понес Его в противоположную сторону, Они битый час шли через анфиладу комнат, которой, казалось, нет конца, а когда наконец пришли, Z показалось, что Они вернулись в ту комнату, из которой вышли (возможно, так оно и было) – столь она была похожа на нее, похожа в мельчайших деталях: зеркальные стены и потолки с редкой, алого бархата мебелью, – здесь Отец вернул Z на руки Четырнадцатому, оставив обоих в блаженном неведении, что означала эта прогулка, тем более что по пути им никто не встретился, и тем не менее с того дня и до того момента, как Z прочно встал на ноги, выход и возвращение в комнату с зеркальными потолками и стенами, наряду с кратковременными посещениями матери для кормления, повторялись ежедневно, став обязательным ритуалом, вместе с необходимыми для ребенка играми, по части которых Четырнадцатый оказался специалистом узкого профиля: оставшись наедине с Z, он не находил ничего лучшего, как строить ему рожи разнообразного толка, от веселящих до устрашающих, внезапно сменяемые маски неизменно приводили Z в восторг, и, став много старше, Он, с благодарность вспоминая к тому времени уже покойного Четырнадцатого, то и дело на приеме, например, вверительных грамот, строил рожи иностранным послам, выбивая из них холодный пот, переходящий в ужас, доставалось в этом смысле и своим дипломатам (мы звали их «Врунишки») – перед отправкой куда-либо они получали свою порцию скоморошин и, говорят, передавали полученное так или иначе заморским государям, сбивая их с толку и мороча голову, чуть меньше Z корчил рожи прочим чиновникам – одну или две в зависимости от ранга (но не более трех) – и только Просто детей он неизменно встречал с каменным, похожим на памятный обелиск лицом, причины данной строгости обнаружатся позже, тогда же, в одну из августовских ночей, Четырнадцатый вдруг неведомо куда исчез (по слухам, став Растворившимся – за возможность коснуться Государя надо было платить), а к Их Высочеству на рассвете явилась рука в сопровождении глаза, явились так, как есть, без тела и разума, рука хлопнула Z по заду, а глаз, подлетев вплотную к развернувшемуся к ним мальчику, уставился прямо в лоб, будто там было что-то написано, Z слышал об этой парочке, но никогда не видел и теперь лишь сказал вслух, желая удостовериться в почти очевидном: «Всевидящий поджопник»… «Всевидящий поджопник… всевидящий поджопник… всевидящий поджопник…», – эхом пронеслось по дворцу, пронеслось и затихло в зеркалах и бархате, рука кивнула, глаз закрылся, соглашаясь, и тут же широко открылся – Z вздрогнул и кивнул в ответ, поняв, что время игр (Он ошибся) раз и навсегда кончилось, а глаз и рука не что иное, как Его единственный и неповторимый учитель.
Уроки всякий раз начинались засветло – Всевидящий поджопник, как говорили, страдал бессонницей и потому торопил утро, заставая Z в благостном, полном детских снов сознании, от которого его избавляли обычным и одноименным для учителя средством, эффективным всегда и везде (все мы прошли через него), так как «наряду с молоком Позаправдашней бабы Поджопник – носитель Добра абсолютного, и в этом качестве есть средство универсальное и неоспоримое, обязательное к применению во всех семьях, вне зависимости от социального происхождения и имущественного положения, вне зависимости от успехов ученика, не глядя на то, мальчик или девочка, не применяющих сие в учебно-воспитательном процессе лишать прав родительских и преподавательских, ибо не бьющий ребенка наносит вред государству, от него дети живут без страха перед вышестоящим, а от отсутствия оного в душе человеческой взрастают свобода и безначалие губительное», и словам сим тому следовали беспрекословно, от Дворца до самой убогой хижины, и Z получал свою порцию, как и самый последний из нас, была то рука одна или множество – понять сложно, так или иначе, Поджопник везде успевал, никто не жаловался на недостачу Добра, об обратном никто и подумать не мог – раз уж выше так, значит, и ниже, и думать здесь нечего, исполняй, вот, ведь и сам Z просыпался от хлопка, пусть и несильного, но настойчивого – точно выверенный поджопник прилетал в одно и то же место, без промаха, не помогало спать на спине (зряшная хитрость), все одно прилетало, не понимал как: и ведь не сквозь матрас, а напрямик (чудо, не иначе), и так прилетало (если не встал с первого раза), что в ушах звенело, однажды дождался и третьего – сидеть не мог месяц и принимал гостей стоя, и бог весть, что они себе напридумали, а всего-то Наследника тайна: жопа болит – не сесть.
За пробуждением шли ничем не примечательные умывание и завтрак, сменявшиеся без паузы уроками, которые начинались и заканчивались родным языком, Z должен был говорить и писать идеально, пусть и делал он это публично весьма редко, выступая эталоном без намека на ошибку, с максимально возможным для носителя словарным запасом, который имел особое значение – во-первых, правитель, используя его, мог говорить столь витиевато, что мы слабо понимали его, слепо веря при том, что он вещает некую недоступную простому смертному истину, во-вторых, тайна эта успешно работала и в законах – большинство из них мы не понимали и не понимаем (цитируемое выше и далее – лишь капля в море нам недоступного), отчего казалось, что писаны они не для нас и не во имя нас, а лишь для тех, кто их создал, создал рукой твердой, разумом изощренным, совестью не найденной, создал так, что как ни смотри – не найдешь, кто прав, кто виноват, а найдешь – обманешься и заплутаешь в комментариях, составленных автором так, чтобы не объяснить, а запутать еще более, чем без них, чтобы в конце концов не было никакого иного выхода, кроме как подчиниться и слепо исполнять все, что говорится свыше, часто вопреки здравому смыслу и обычной человеческой логике, от которой прежде всего и лечил Z Всевидящий поджопник, с первого дня объясняя: «таковой нет, а есть лишь интерес Z, простым людям непонятный и чем более непонятный, тем лучше, тем больше и увереннее можно делать все, что вздумается, все, что душе Z угодно, и лишь ему одному, а не тем „скотам“ за окном, что, может, и люди, но всего лишь люди, и потому говорить нужно так, чтобы Вас приняли как что-то высшее, как что-то много большее, чем они, – слова должны возвышать Вас и преклонять их, а не объяснять и тем более что-то обещать, в них не должно быть смысла, в них должна быть только вера, одинокая и не имеющая возражений вера в то, что для Вас все возможно, а для них без Вас – ничего».
Второй урок – математика, ненавидимая Z всем сердцем (по слухам, Он так и не ушел дальше таблицы умножения, что, хотя и спорно, но в точности неизвестно – сведения эти была государственной тайной, хранимой от публики тщательней отдельных частей тела Позаправдашней бабы), к чести Всевидящего поджопника и здесь, стремясь привлечь внимание подопечного, он утверждал, что «суть математики для Вашего Высочества не в числах и не действиях с ними, и тем более не в точности тех или иных подсчетов, а прежде всего – в умении манипулировать числами ради своего интереса, качество это, едва ли не значимее устной речи, ибо числам доверия больше, чем словам – они, будучи производными от количества вещей, притягивают к себе людей как объективность, свободная от вольной трактовки, как сущность, ценная сама по себе и неизбежно ограниченная в смыслах, а потому доступная даже самому убогому уму, ибо он всегда, в отличие от слов, может сопоставить с числами конкретные предметы, отчего управление числами в своих интересах – умение для государя наиважнейшее, постигший его во всех деталях возносится на вершины горние, совсем уж недостижимые для „скота“, который, поверив числу (пускай совершенно нелепому), окончательно теряет способность к свободному мышлению, становясь исключительно послушным и усердным в исполнении всего того, что Ваше Высочество пожелало или когда-либо пожелает», – так говорил едва ли не на каждом уроке Всевидящий поджопник, видя, что Ученик, кивая в знак согласия, внутренне сопротивляется, и вовсе не самой идее – с этим Он был более чем согласен – дело было (как показало дальнейшее правление) в другом: Z сумел, в отличие от многих до него, обходиться практически без чисел, обнаружив однажды (кажется, это были впервые показанные ему списки НПП), что цифры не обязательно искажать (преуменьшать, преувеличивать, выдумывать), их можно просто игнорировать, не обращать внимания на данность числа, говоря, вне зависимости от повода, что Он выше этого, выше вещей, которые понятны всегда и всем, выше реальности, выстроенной на более или менее строгих подсчетах, ибо любой подсчет есть совокупность частей, а Он – Целое, нерушимое и неделимое целое, и потому любое число, озвученное им, – Истина, проверяй не проверяй, Z в конечном итоге даже и не выше этого, а вне, Он – другое измерение чисел, когда они вроде есть, но в реальности их нет, они попросту не принимаются во внимание как что-то несущественное при принятии какого бы то ни было решения, при этом доказательства излишни, оправдания тем паче, ибо Z не тот, которому все прощается, он Тот, кто прощает всем.
Третьей была география, обожаемая Z c раннего детства, – глобус, подаренный отцом на первом году обучения, носили за ним всегда и всюду и для справки, и для увеселения: Z, и будучи взрослым, любил несколько раз за день крутануть его туда-сюда без надобности, в детстве же эта потребность удовлетворялась едва ли не каждые десять минут, нередко на царственную прихоть прерывались обеды, приемы и даже первая женщина Z (фрейлина, весьма похожая на Позаправдашюю бабу) не заняла Его настолько, чтобы Он изменил сложившейся привычке – Z покинул ее в самый ответственный момент, чтобы крутануть глобус по часовой, так что дорожка из царственного семени (весьма внушительных для простого смертного размеров), излившись вне положенного ей места, пролегла от постели до подоконника и долгое время не смывалась как реликвия государственной важности (Дура приняла в связи с этим специальное постановление), пока новый состав оного, весьма непостоянного учреждения усомнился (нет, не в самой реликвии) в необходимости хранить ее именно там, и дорожку, со всеми предосторожностями (разработкой технологии занимался специально созданный НИИ) перенесли в главный и, кстати, до сих пор в части основных интерьеров незаконченный, музей страны, сделав копии в натуральную величину для всех без исключения малых, власти на местах обязали организовать посещения и просмотры этой части экспозиции всем без исключения населением региона, дабы оно окончательно уверилось в силе государства, способного как на подобный экспонат, так и на организацию его сбора, переноса и содержания, и все мы хотя бы раз в жизни действительно видели это прямое следствие любви Z к географии, многие, многие из нас после тех экскурсий покупали глобусы в надежде уподобиться хотя бы в этом верховной власти, но тщетно: несостоявшаяся жизнь, вышедшая в те мгновения из Z, превосходила все обычные для обычного мужчины объемы, Он словно вобрал и выбросил из себя весь мир, к модели которого так настойчиво стремился, глядевшая же ему в спину с той ночи исчезла из Дворца, ее сменили другие (Z ни к одной из них не должен был прикасаться дважды), но история более не повторилась, так как глобус предусмотрительно убирали из зоны прямой видимости, и Z, лишенный отвлекающего фактора, теперь был морально безупречен – исполняя категорический императив, Он поступал так, как и должен был поступить всякий в его положении, не прерываясь и не покидая тело, данное Ему с намерениями благими, почти что священными.
Уроки четвертый и пятый, напротив, были лишены подобной сакральности и посвящались языкам неродным, три из которых выбирались из почти бескрайнего списка и распределялись (в зависимости от успехов) примерно в равных долях на шесть учебных дней, предпочтение отдавалось языкам, с одной стороны, необходимым, с другой (это касалось третьего по счету) – необычным, дабы Z при случае мог не только соответствовать, но и удивить познаниями, выходящими за рамки стандартной образованщины, впрочем, и это не было главной, а лишь дополнительной задачей, в этой связи Всевидящий поджопник сказал как-то, что «язык неродной, не имея ценности сам по себе (у Их Высочества всегда есть переводчики), важен как средство развития языка родного и пополнения его совсем уж непонятным для большинства словарным фондом, использование (в меру частое) иностранных слов правителем возносит его на вершины дольние по отношению к подданным и рекомендуется едва ли не в каждом третьем абзаце, но не чаще, дабы избыток иностранных слов не рождал неблагоприятное впечатление в народе, в большинстве своем не любящем чужаков, в какой бы форме они ни заявляли о своем существовании», – наставлению тому беспрекословно следовали и, видя, как подопечный делает успехи в каждом из трех избранных наречий, ни на минуту не забывали, зачем прежде всего они требуются, и даже носители языка, нанятые со временем (Всевидящий поджопник знал многое, но, конечно, не все), не могли требовать, как они привыкли, чтобы урок полностью (во имя результата, разумеется) протекал на их наречии, – им всякий раз вежливо, но весьма настойчиво отказывали, не объясняя, впрочем, реальных причин того, почему Z ни при каких условиях не должен был говорить, хоть сколько бы продолжительное время исключительно на иностранном языке, неизменно присутствующий на уроках Поджопник, используя песочные часы (каждые пять минут), обрывал заметно затянувшийся диалог (Z, общаясь с носителями, изредка терял контроль над собой) и спрашивал, как Его Высочество себя чувствует, будто бы от длительного и беспрерывного говорения иностранных слов у Z могла возникнуть какая-то болезнь, так или иначе, носитель языка почтительно умолкал, а Z отвечал наставнику на родном языке, после чего урок возобновлялся, чтобы вскоре прерваться вновь, и правило это после недолго обсуждения (в Дуре дискутировали только по поводу временных отрезков) вскоре распространили на всю страну: все мы не должны были (те, кто в силу доходов или интереса имел такую возможность) говорить на иностранном языке более одной минуты, если вели диалог в учебных целях, при разговоре на иностранном с носителем языка диалог сокращался до тридцати секунд и должен был прерываться на пятиминутную беседу на родном языке (пусть даже и с самим собой, в таком случае иностранец не должен был издавать ни единого звука – нарушивший правило навсегда выдворялся из страны), а любой из нас, вышедший за временные лимиты («Заболтавшийся»), на первый раз лишался права произносить иностранные слова вслух, на второй утрачивал кончик языка, на третий терял этот орган совсем, исключение законом делалось для Их Величества и Их Высочества, так как считалось, что в них самой царственной природой заложено сопротивление всему неродному и назначенный воспитателем лимит – не более чем разумная профилактика возможной языковой инфекции (не исключалась и намеренная диверсия, хотя носители чрезвычайно строго проверялись на благонадежность), способной по прошествии времени развиться в серьезную болезнь, коей по недосмотру страдали несколько прежних государей, подвергших страну смуте и несчастьям – все Они чрезмерно следовали иностранным словам без должного, а часто и хоть какого-либо понимания их сущности.
О проекте
О подписке
Другие проекты
