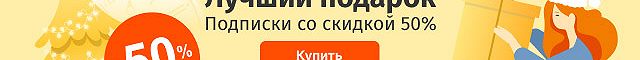
XVIII
Крайнее средство
Избавившись от груза, «Матутина» стала погружаться медленнее, но все же продолжала погружаться. Положение было отчаянное: не оставалось больше никакой надежды. Последнее средство было испробовано.
– Нет ли там еще чего, что можно было бы сбросить в море? – крикнул главарь.
Доктор, о котором все позабыли, вышел из каюты и сказал:
– Есть.
– Что? – спросил главарь.
– Наше преступление, – ответил доктор.
– Аминь! – вздрогнув, воскликнули все в один голос.
Доктор, мертвенно-бледный, выпрямился и, указав на небо, произнес:
– На колени!
Они качнулись, собираясь пасть ниц.
Доктор продолжал:
– Бросим в море наши преступления. Они – наша главная тяжесть. Из-за них судно идет ко дну. Нечего думать о спасении жизни, подумаем лучше о спасении души. Слушайте, несчастные: тяжелее всего наше последнее преступление – то, которое мы сейчас совершили или, вернее, довершили. Нет более дерзкого кощунства, как искушать пучину, имея на совести предумышленное убийство. То, что содеяно против ребенка, – содеяно против Бога. Уехать было необходимо, я знаю, но это была верная гибель. Тень, отброшенная нашим черным делом, навлекла на нас бурю. Так и должно быть. Впрочем, жалеть нам не о чем. Тут, неподалеку от нас, в этой непроглядной тьме, Вовильские песчаные отмели и мыс Гуг. Это – Франция. Для нас оставалось только одно убежище – Испания. Франция для нас не менее опасна, чем Англия. Избежав гибели на море, мы попали бы на виселицу. Либо потонуть, либо быть повешенным – другого выбора у нас не было. Бог сделал выбор за нас. Возблагодарим же Его. Он дарует нам могилу в пучине моря, которая смоет с нас грехи. Братья мои, это было неизбежно. Подумайте: ведь мы только что сделали все, от нас зависящее, чтобы погибло невинное существо, ребенок, и, быть может, в эту самую минуту в небе, над нашими головами, его чистая душа обвиняет нас перед лицом Судии, взирающего на нас. Воспользуемся последней отсрочкой. Постараемся, если только это еще возможно, исправить в пределах, нам доступных, содеянное нами зло. Если ребенок нас переживет, придем ему на помощь. Если он умрет, приложим все усилия к тому, чтобы заслужить его прощение. Снимем с себя тяжесть преступления. Освободимся от бремени, гнетущего нашу совесть. Постараемся, чтобы наши души не были отвергнуты Богом, ибо это было бы самой ужасной гибелью. Наши тела тогда достались бы рыбам, а души – демонам. Пожалейте самих себя! На колени, говорю вам! Раскаяние – ладья, которая никогда не идет ко дну. У вас нет больше компаса? Вы заблуждаетесь. Ваш компас – молитва.
Волки превратились в ягнят. Такие превращения происходят в минуты безысходного отчаяния. Бывают случаи, что и тигры лижут распятие. Когда приоткрывается дверь в неведомое, верить – трудно, не верить – невозможно. Как бы ни были несовершенны изобретенные людьми религии, но даже в том случае, когда вера человека расплывчата и догмат не согласуется с образом приоткрывшейся ему вечности, невольный трепет овладевает его душой в последнюю минуту. По ту сторону жизни нас ожидает неведомое. Это и угнетает человека перед лицом смерти.
Час смерти – время расплаты. В это роковое мгновение люди чувствуют всю тяжесть лежащей на них ответственности. То, что было, усложняет собою то, чему предстоит совершиться. Прошедшее возвращается и вторгается в будущее. Все изведанное предстоит взору такой же бездной, как и неизведанное, и обе эти пропасти: одна – исполненная заблуждений, другая – ожидания, – взаимно отражаются одна в другой. Это слияние двух пучин повергает в ужас умирающего.
Беглецы утратили последнюю надежду на спасение здесь, в земной жизни. Потому-то они и повернулись в другую сторону. Только там, во мраке вечной ночи, они еще могли уповать на что-то. Они это поняли. Это было скорбным просветлением, за которым снова последовал ужас. То, что постигаешь в минуту кончины, похоже на то, что видишь при вспышке молнии. Сначала – все, потом – ничего. И видишь, и не видишь. После смерти наши глаза опять откроются, и то, что было молнией, станет солнцем.
Они воскликнули, обращаясь к доктору:
– Ты! Ты! Ты один теперь у нас. Мы исполним все, что ты велишь. Что нужно делать? Говори!
Доктор ответил:
– Нужно перешагнуть неведомую бездну и достигнуть другого берега жизни, по ту сторону могилы. Я знаю больше всех вас, и наибольшая опасность угрожает мне. Вы поступаете правильно, предоставляя выбор моста тому, кто несет на себе самое тяжелое бремя. Сознание содеянного зла гнетет совесть, – прибавил он, а затем спросил: – Сколько времени нам еще остается?
Гальдеазун взглянул на цифры, показывавшие глубину осадки.
– Немного больше четверти часа, – ответил он.
– Хорошо, – промолвил доктор.
Низкая крыша каюты, на которую он облокотился, представляла собою нечто вроде стола. Доктор вынул из кармана чернильницу, перо и бумажник, вытащил из него пергамент, тот самый, на котором несколько часов назад он набросал строк двадцать своим неровным, убористым почерком.
– Огня! – распорядился он.
Снег, падавший безостановочно, как брызги пены водопада, погасил один за другим все факелы, кроме одного. Аве-Мария выдернул этот факел из гнезда и, держа его в руке, стал рядом с доктором.
Доктор спрятал бумажник в карман, поставил на крышу каюты чернильницу, положил перо, развернул пергамент и сказал:
– Слушайте.
И вот среди моря, на неуклонно оседавшем остове судна, похожем на шаткий настил над зияющей могилой, доктор с суровым видом приступил к чтению, которому, казалось, внимал весь окружающий их мрак. Осужденные на смерть, склонив головы, обступили старика. Пламя факела подчеркивало бледность их лиц. То, что читал доктор, было написано по-английски. Временами, поймав на себе чей-либо жалобный взгляд, молча просивший разъяснения, доктор останавливался и переводил только что прочитанное на французский, испанский, баскский или итальянский языки. Слышались сдавленные рыдания и глухие удары в грудь. Тонущее судно продолжало погружаться.
Когда чтение было кончено, доктор разложил пергамент на крыше каюты, взял перо и на оставленном для подписей месте под текстом вывел свое имя: Доктор Гернардус Геестемюнде.
Затем, обратившись к людям, окружавшим его, сказал:
– Подойдите и подпишитесь.
Первой подошла уроженка Бискайи, взяла перо и подписалась: Асунсьон.
Она передала перо ирландке – та по неграмотности поставила крест.
Доктор рядом с крестом приписал: Барбара Фермой, с острова Тиррифа, что в Эбудах.
Потом он протянул перо главарю шайки.
Тот подписался: Гаиздорра, капталь.
Генуэзец вывел под этим свое имя: Джанджирате.
Уроженец Лангедока подписался: Жак Катурз, по прозванию Нарбоннец.
Провансалец подписался: Люк Пьер Капгаруп, из Магонской каторжной тюрьмы.
Под этими подписями доктор сделал примечание: «Экипаж урки состоял из трех человек, судовладельца унесло в море, двое подписались ниже».
Оба матроса проставили под этим свои имена. Уроженец Северной Бискайи подписался: Гальдеазун. Уроженец Южной Бискайи подписался: Аве-Мария, вор.
Покончив с этим, доктор крикнул:
– Капгаруп!
– Есть! – отозвался провансалец.
– Фляга Хардкванона у тебя?
– У меня.
– Дай-ка ее мне.
Капгаруп выпил последний глоток водки и протянул флягу доктору.
Вода в трюме прибывала с каждой минутой. Судно погружалось в море.
Плоская, постепенно возраставшая волна медленно затопляла скошенную по краям палубу.
Все сбились в кучу.
Доктор просушил на пламени факела еще влажные подписи, свернул пергамент, чтобы он мог пройти в горлышко фляги, и всунул его внутрь. Потом потребовал:
– Пробку!
– Не знаю, где она, – ответил Капгаруп.
– Вот обрывок гинь-лопаря, – предложил Жак Катурз.
Доктор заткнул флягу кусочком несмоленого троса и приказал:
– Смолы!
Гальдеазун пошел на нос, погасил пеньковым тушилом догоревшую в гранате паклю, снял самодельный фонарь с форштевня и принес доктору; граната была до половины наполнена кипящей смолой.
Доктор погрузил горлышко фляги в смолу, затем вынул его оттуда. Теперь фляга, заключавшая в себе подписанный всеми пергамент, была закупорена и засмолена.
– Готово, – сказал доктор.
В ответ из уст всех присутствующих вырвался невнятный разноязыкий лепет, походивший на мрачный гул катакомб:
– Да будет так!
– Меа culpa![51]
– Asi sea![52]
– Aro rai![53]
– Amen![54]
Восклицания потонули во мраке, подобно угрюмым голосам строителей Вавилонской башни, испуганных безмолвием неба, отказывавшегося внимать им.
Доктор повернулся спиною к своим товарищам по преступлению и несчастью и сделал несколько шагов к борту. Подойдя к нему вплотную, он устремил взор в беспредельную даль и с чувством произнес:
– Bist du bei mir?[55]
Вероятно, он обращался к какому-то призраку.
Судно оседало все ниже и ниже.
Позади доктора все стояли погруженные в свои думы. Молитва – неодолимая сила. Они не просто склонились в молитве, они словно сломились под ее тяжестью. В их раскаянии было нечто непроизвольное. Они беспомощно никли, как никнет в безветрие парус; мало-помалу эти суровые люди с опущенными головами и молитвенно сложенными руками принимали, хотя и по-разному, сокрушенную позу отчаяния и упования на Божье милосердие. Быть может, то был отсвет разверзшейся перед ними пучины, но на эти разбойничьи лица легла печать спокойного достоинства.
Доктор снова подошел к ним. Каково бы ни было его прошлое, этот старик в минуту роковой развязки казался величественным. Безмолвие черных пространств, окружавших корабль, хотя и занимало его мысли, но не повергало в смятение. Этого человека нельзя было застигнуть врасплох. Спокойствия его не мог нарушить даже ужас. Его лицо говорило о том, что он постиг величие Бога.
В облике этого старика, этого углубленного в свои мысли преступника, была торжественность пастыря, хотя он об этом и не подозревал.
Он промолвил:
– Слушайте!
И, вперив взгляд в пространство, прибавил:
– Пришел наш смертный час.
Взяв факел из рук Аве-Мария, он взмахнул им.
Стая искр оторвалась от пламени, взлетела и рассеялась во тьме.
Доктор бросил факел в море.
Факел потух. Последний свет погас, воцарился непроницаемый мрак. Казалось, над ними закрылась могила.
И в этой темноте раздался голос доктора:
– Помолимся!
Все опустились на колени.
Теперь они стояли уже не на снегу, а в воде.
Им оставалось жить лишь несколько минут.
Один только доктор не преклонил колен. Снежинки падали, усеивая его фигуру белыми, похожими на слезы, звездочками и выделяя ее на черном фоне ночи. Это была говорящая статуя мрака.
Он перекрестился и возвысил голос, меж тем как палуба у него под ногами начала еле заметно вздрагивать, предвещая окончательное погружение судна в воду. Он произнес:
– Pater noster, qui es in coelis[56].
Провансалец повторил по-французски:
– Notre Père qui êtes aux cieux.
Ирландка повторила на своем языке, понятном уроженке Бискайи:
– Ar nathair ata ar neamh.
Доктор продолжал:
– Sanctificetur nomen Tuum[57].
– Que votre пот soit sanctifié, — перевел провансалец.
– Naomhthar hainm, – сказала ирландка.
– Adveniat regnum Tuum[58], – продолжал доктор.
– Que votre règne arrive, – повторил провансалец.
– Tigeadh do rioghachd, – подхватила ирландка. Они стояли на коленях, и вода доходила им до плеч.
Доктор продолжал:
– Fiat voluntas Tua[59].
– Que votre volonté soit faite, – пролепетал провансалец.
У обеих женщин вырвался вопль:
– Deuntar do thoil ar an Hhalámb!
– Sicut in coelo et in terra[60], – произнес доктор.
Никто не отозвался.
Он посмотрел вниз. Все головы были под водой. Ни один человек не встал. Так, коленопреклоненные, они дали воде поглотить себя.
Доктор взял в правую руку флягу, стоявшую на крыше каюты, и поднял ее над головой.
Судно шло ко дну.
Погружаясь в воду, доктор шепотом договаривал последние слова молитвы.
С минуту над водой виднелась еще его грудь, потом только голова, наконец лишь рука, державшая флягу, как будто он показывал ее бесконечности.
Но вот исчезла и рука. Поверхность моря стала гладкой, как у оливкового масла, налитого в бочку. Все падал и падал снег.
Какой-то предмет вынырнул из пучины и во мраке поплыл по волнам. Это была засмоленная фляга, державшаяся на воде благодаря плотной ивовой плетенке.
О проекте
О подписке
Другие проекты

