Есть ли у вас ятрофобия? А хотите заиметь?)) Тогда добро пожаловать в книгу врача о профдеформации и профнедостаточности. Страшно? Еще бы! Страшно было читать. А молодым врачам(некоторым или многим) страшно было начинать работать, когда понимаешь, что универ и больница - это не одно и то же. Страшно, когда не знаешь, что делать. Страшно сделать ошибку. Страшно убить пациента. Вся работа через страх, через риск, переступая себя.
Этика? Врачебная этика? Ну да, слышали. Только так уж вышло, что врачи работают с людьми, и учатся на людях, и ошибаются тоже на людях. И добровольно подопытными ̶к̶р̶о̶л̶и̶к̶а̶м̶и̶ человеками никто не хочет быть. И умерших родных добровольно потрошить никто не хочет дать. А как же учиться? А как же развивать науку? На животных говорите? Так не все же на них проверишь. Вот и вели науку вперед, кто втихую заражая пациентов, арестантов, бедняков, а кто и на себе опыты ставил. А кто просто ждал, когда другие наошибаются.
И обо всем этом в книге Вересаева. О страхах молодого врача, зеленого выпускника, об уровне образования, о недостаточности знаний; о профдеформации, когда забываешь, что перед тобой человек. Профдеформация страшна в любой профессии, но у врачей она "страшнее" и ощутимее. О компромиссах. А еще о двояком отношении к тем же врачам, к их рабочему времени и оплате их труда, к их свободному времени.
Вересаев довольно открыто написал о многом и именно этой открытостью разворошил ̶к̶л̶у̶б̶о̶к̶ ̶з̶м̶е̶й̶ мед.общество. Столько врачей и около мед.обывателей писали на "Записки" обвинения, что вынудили Вересаева в конце книги еще и "оправдания"-пояснения добавить.
Самыми запоминающимися в этой книге для меня оказались главы о студ.жизни и о вен.заболеваниях.
Книге 100 лет. Врач написал о недостаточности знаний у выпускников... и вот 21 век и мы сталкиваемся с новым видом "врачей", которые ставят диагноз с помощью гугла(сама видела) . Далеко ̶ш̶а̶г̶н̶у̶л̶а̶ ̶м̶е̶д̶и̶ц̶и̶н̶а̶ шагнул прогресс.
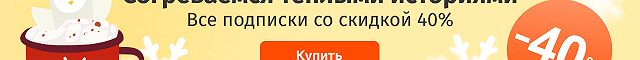
- Главная
- Библиотека
- ⭐️Викентий Вересаев
- Отзывы на книги автора
Отзывы на книги автора «Викентий Вересаев»
OlesyaSG
Оценил книгу
Поделиться
OlesyaSG
Оценил книгу
Есть ли у вас ятрофобия? А хотите заиметь?)) Тогда добро пожаловать в книгу врача о профдеформации и профнедостаточности. Страшно? Еще бы! Страшно было читать. А молодым врачам(некоторым или многим) страшно было начинать работать, когда понимаешь, что универ и больница - это не одно и то же. Страшно, когда не знаешь, что делать. Страшно сделать ошибку. Страшно убить пациента. Вся работа через страх, через риск, переступая себя.
Этика? Врачебная этика? Ну да, слышали. Только так уж вышло, что врачи работают с людьми, и учатся на людях, и ошибаются тоже на людях. И добровольно подопытными ̶к̶р̶о̶л̶и̶к̶а̶м̶и̶ человеками никто не хочет быть. И умерших родных добровольно потрошить никто не хочет дать. А как же учиться? А как же развивать науку? На животных говорите? Так не все же на них проверишь. Вот и вели науку вперед, кто втихую заражая пациентов, арестантов, бедняков, а кто и на себе опыты ставил. А кто просто ждал, когда другие наошибаются.
И обо всем этом в книге Вересаева. О страхах молодого врача, зеленого выпускника, об уровне образования, о недостаточности знаний; о профдеформации, когда забываешь, что перед тобой человек. Профдеформация страшна в любой профессии, но у врачей она "страшнее" и ощутимее. О компромиссах. А еще о двояком отношении к тем же врачам, к их рабочему времени и оплате их труда, к их свободному времени.
Вересаев довольно открыто написал о многом и именно этой открытостью разворошил ̶к̶л̶у̶б̶о̶к̶ ̶з̶м̶е̶й̶ мед.общество. Столько врачей и около мед.обывателей писали на "Записки" обвинения, что вынудили Вересаева в конце книги еще и "оправдания"-пояснения добавить.
Самыми запоминающимися в этой книге для меня оказались главы о студ.жизни и о вен.заболеваниях.
Книге 100 лет. Врач написал о недостаточности знаний у выпускников... и вот 21 век и мы сталкиваемся с новым видом "врачей", которые ставят диагноз с помощью гугла(сама видела) . Далеко ̶ш̶а̶г̶н̶у̶л̶а̶ ̶м̶е̶д̶и̶ц̶и̶н̶а̶ шагнул прогресс.
Поделиться
booktherapy
Оценил книгу
Данная книга - моё первое знакомство с Викентием Викентьевичем Вересаевым, про которую я была наслышана несколько лет. И она мне представлялась как художественная проза, которая рассказывает о жизни врачей и их каждодневных делах, но эта книга оказалась гораздо глубже, изысканнее, она честно рассказывает о боли, страданиях, моральном выборе врача, погружает во тьму медицинской профессии. Необходимо отметить, что книга написана в начале XX столетия, и нынешняя медицина сильно отличается от того времени, но это не мешает большинству упомянутых в книге вопросов быть актуальными и по сей день. Было очень увлекательно читать про честный взгляд на эту профессию.
Викентий Викентьевич обсуждает в этой книге массу вопросов: например, обязательные вскрытия в бесплатных клиниках и их влияние на будущие решения родственников, мораль медицинских экспериментов над пациентами с их согласия и без него, сколько раз неправильное лечение приводит к смерти пациента, насколько этична эта профессия, необходима ли конфиденциальность между пациентом и врачом, как тестировались вакцины и лекарства, как пациенты или их родственники реагируют на хорошие и плохие новости и как это влияет на врача... Это строгий, но эмоциональный анализ пути врача и взаимосвязи между его ремеслом и сущностью человеческого бытия. Путь становления молодого врача и отсутствия у него какой-либо значимой подготовки к тому, что он увидит и должен будет сделать, до глубокого конфликта между благом всей медицинской науки и будущих поколений и непосредственной потребностью в помощи одного человека он проникает в суть сложных и обременительных вопросов, которые преследуют медицину.
Также моё издание включает полемику Викентия Вересаева с критиками, так как книга была громким событием в то время. Автору удалось отклонить замечания людей, которые пытались остановить справедливую критику состояния медицинской науки и практики в тот день, когда автор писал свою книгу.
Горячо советую к прочтению. Очень интересная и увлекательная, на многое заново открывает глаза. Снова захотелось читать книги по медицине. Обязательно буду её перечитывать, одна из лучших книг.
Поделиться
booktherapy
Оценил книгу
Данная книга - моё первое знакомство с Викентием Викентьевичем Вересаевым, про которую я была наслышана несколько лет. И она мне представлялась как художественная проза, которая рассказывает о жизни врачей и их каждодневных делах, но эта книга оказалась гораздо глубже, изысканнее, она честно рассказывает о боли, страданиях, моральном выборе врача, погружает во тьму медицинской профессии. Необходимо отметить, что книга написана в начале XX столетия, и нынешняя медицина сильно отличается от того времени, но это не мешает большинству упомянутых в книге вопросов быть актуальными и по сей день. Было очень увлекательно читать про честный взгляд на эту профессию.
Викентий Викентьевич обсуждает в этой книге массу вопросов: например, обязательные вскрытия в бесплатных клиниках и их влияние на будущие решения родственников, мораль медицинских экспериментов над пациентами с их согласия и без него, сколько раз неправильное лечение приводит к смерти пациента, насколько этична эта профессия, необходима ли конфиденциальность между пациентом и врачом, как тестировались вакцины и лекарства, как пациенты или их родственники реагируют на хорошие и плохие новости и как это влияет на врача... Это строгий, но эмоциональный анализ пути врача и взаимосвязи между его ремеслом и сущностью человеческого бытия. Путь становления молодого врача и отсутствия у него какой-либо значимой подготовки к тому, что он увидит и должен будет сделать, до глубокого конфликта между благом всей медицинской науки и будущих поколений и непосредственной потребностью в помощи одного человека он проникает в суть сложных и обременительных вопросов, которые преследуют медицину.
Также моё издание включает полемику Викентия Вересаева с критиками, так как книга была громким событием в то время. Автору удалось отклонить замечания людей, которые пытались остановить справедливую критику состояния медицинской науки и практики в тот день, когда автор писал свою книгу.
Горячо советую к прочтению. Очень интересная и увлекательная, на многое заново открывает глаза. Снова захотелось читать книги по медицине. Обязательно буду её перечитывать, одна из лучших книг.
Поделиться
booktherapy
Оценил книгу
Данная книга - моё первое знакомство с Викентием Викентьевичем Вересаевым, про которую я была наслышана несколько лет. И она мне представлялась как художественная проза, которая рассказывает о жизни врачей и их каждодневных делах, но эта книга оказалась гораздо глубже, изысканнее, она честно рассказывает о боли, страданиях, моральном выборе врача, погружает во тьму медицинской профессии. Необходимо отметить, что книга написана в начале XX столетия, и нынешняя медицина сильно отличается от того времени, но это не мешает большинству упомянутых в книге вопросов быть актуальными и по сей день. Было очень увлекательно читать про честный взгляд на эту профессию.
Викентий Викентьевич обсуждает в этой книге массу вопросов: например, обязательные вскрытия в бесплатных клиниках и их влияние на будущие решения родственников, мораль медицинских экспериментов над пациентами с их согласия и без него, сколько раз неправильное лечение приводит к смерти пациента, насколько этична эта профессия, необходима ли конфиденциальность между пациентом и врачом, как тестировались вакцины и лекарства, как пациенты или их родственники реагируют на хорошие и плохие новости и как это влияет на врача... Это строгий, но эмоциональный анализ пути врача и взаимосвязи между его ремеслом и сущностью человеческого бытия. Путь становления молодого врача и отсутствия у него какой-либо значимой подготовки к тому, что он увидит и должен будет сделать, до глубокого конфликта между благом всей медицинской науки и будущих поколений и непосредственной потребностью в помощи одного человека он проникает в суть сложных и обременительных вопросов, которые преследуют медицину.
Также моё издание включает полемику Викентия Вересаева с критиками, так как книга была громким событием в то время. Автору удалось отклонить замечания людей, которые пытались остановить справедливую критику состояния медицинской науки и практики в тот день, когда автор писал свою книгу.
Горячо советую к прочтению. Очень интересная и увлекательная, на многое заново открывает глаза. Снова захотелось читать книги по медицине. Обязательно буду её перечитывать, одна из лучших книг.
Поделиться
Lusil
Оценил книгу
Изредка попадаются нон-фикшн книги которые написаны более века тому назад, а актуальны до сих пор. Еще реже они способны удивить читателя правильностью мышления автора, его адекватностью несмотря на все происходящее вокруг него в то время когда книга писалась. К сожалению атмосфера вокруг писателя часто отражается на его творчестве, ученых это касается реже, но все же и на их произведениях отражается. Викентий Вересаев писатель, переводчик, литературовед, но судя по "Запискам врача" еще й ученый, пусть не фактически, но мыслит именно так, при чем как хороший ученый. Автор в своем произведении критикует медицину, рассматривает ее с разных сторон, пишет о плюсах и минусах работы врачом и о достоинствах и недостатках медицины как науки. Эти размышления не просто разумны, они еще и актуальный и поныне (особенно в некоторых странах, не будем показывать пальцем).
Автор в своей книге не много рассказывает о реальных случаях из собственного врачебного опыта, особенно много внимания уделяет своей неуверенности и ошибкам или безнадежным случаям. Это важно, потому что истории даются с моралью и автор еще й показывает читателю как сам видит эти ситуации и как их могут видеть окружающие. Очень много размышлений о медицине как науке, о экспериментах и исследованиях, о этике и морали, в первую очередь о врачебной этике.
Очень интересно автор рассказывает о оплате врачам, при чем с историями из собственного опыта и опыта его знакомых. Денежные проблемы медиков актуальны и поныне, особенно тех кто считает врачевание своим призванием, а не пытается нажиться на пациентах. Также Вересаев описывает неуверенность врачей, их незнание что делать и в тоже время уверенность пациентов в том, что врачи "должны" все знать. Вот это то, что поразило меня больше всего, даже сейчас медицинская наука далека от совершенства, многое еще неизвестно о человеческом организме, что говорить о начале двадцатого века, тогда все было намного печальней, но не все были готовы признать то, что могут чего-то не знать.
Самым удивительным для меня было отношение автора к гомеопатии, честно говоря я была шокирована, так как медицина доказала неэффективность данного метода лечения намного позже, а автор относился с недоверием еще в начале двадцатого века, это вызывает уважение и еще раз указывает на актуальность произведения.
Поделиться
Lusil
Оценил книгу
Изредка попадаются нон-фикшн книги которые написаны более века тому назад, а актуальны до сих пор. Еще реже они способны удивить читателя правильностью мышления автора, его адекватностью несмотря на все происходящее вокруг него в то время когда книга писалась. К сожалению атмосфера вокруг писателя часто отражается на его творчестве, ученых это касается реже, но все же и на их произведениях отражается. Викентий Вересаев писатель, переводчик, литературовед, но судя по "Запискам врача" еще й ученый, пусть не фактически, но мыслит именно так, при чем как хороший ученый. Автор в своем произведении критикует медицину, рассматривает ее с разных сторон, пишет о плюсах и минусах работы врачом и о достоинствах и недостатках медицины как науки. Эти размышления не просто разумны, они еще и актуальный и поныне (особенно в некоторых странах, не будем показывать пальцем).
Автор в своей книге не много рассказывает о реальных случаях из собственного врачебного опыта, особенно много внимания уделяет своей неуверенности и ошибкам или безнадежным случаям. Это важно, потому что истории даются с моралью и автор еще й показывает читателю как сам видит эти ситуации и как их могут видеть окружающие. Очень много размышлений о медицине как науке, о экспериментах и исследованиях, о этике и морали, в первую очередь о врачебной этике.
Очень интересно автор рассказывает о оплате врачам, при чем с историями из собственного опыта и опыта его знакомых. Денежные проблемы медиков актуальны и поныне, особенно тех кто считает врачевание своим призванием, а не пытается нажиться на пациентах. Также Вересаев описывает неуверенность врачей, их незнание что делать и в тоже время уверенность пациентов в том, что врачи "должны" все знать. Вот это то, что поразило меня больше всего, даже сейчас медицинская наука далека от совершенства, многое еще неизвестно о человеческом организме, что говорить о начале двадцатого века, тогда все было намного печальней, но не все были готовы признать то, что могут чего-то не знать.
Самым удивительным для меня было отношение автора к гомеопатии, честно говоря я была шокирована, так как медицина доказала неэффективность данного метода лечения намного позже, а автор относился с недоверием еще в начале двадцатого века, это вызывает уважение и еще раз указывает на актуальность произведения.
Поделиться
Lusil
Оценил книгу
Изредка попадаются нон-фикшн книги которые написаны более века тому назад, а актуальны до сих пор. Еще реже они способны удивить читателя правильностью мышления автора, его адекватностью несмотря на все происходящее вокруг него в то время когда книга писалась. К сожалению атмосфера вокруг писателя часто отражается на его творчестве, ученых это касается реже, но все же и на их произведениях отражается. Викентий Вересаев писатель, переводчик, литературовед, но судя по "Запискам врача" еще й ученый, пусть не фактически, но мыслит именно так, при чем как хороший ученый. Автор в своем произведении критикует медицину, рассматривает ее с разных сторон, пишет о плюсах и минусах работы врачом и о достоинствах и недостатках медицины как науки. Эти размышления не просто разумны, они еще и актуальный и поныне (особенно в некоторых странах, не будем показывать пальцем).
Автор в своей книге не много рассказывает о реальных случаях из собственного врачебного опыта, особенно много внимания уделяет своей неуверенности и ошибкам или безнадежным случаям. Это важно, потому что истории даются с моралью и автор еще й показывает читателю как сам видит эти ситуации и как их могут видеть окружающие. Очень много размышлений о медицине как науке, о экспериментах и исследованиях, о этике и морали, в первую очередь о врачебной этике.
Очень интересно автор рассказывает о оплате врачам, при чем с историями из собственного опыта и опыта его знакомых. Денежные проблемы медиков актуальны и поныне, особенно тех кто считает врачевание своим призванием, а не пытается нажиться на пациентах. Также Вересаев описывает неуверенность врачей, их незнание что делать и в тоже время уверенность пациентов в том, что врачи "должны" все знать. Вот это то, что поразило меня больше всего, даже сейчас медицинская наука далека от совершенства, многое еще неизвестно о человеческом организме, что говорить о начале двадцатого века, тогда все было намного печальней, но не все были готовы признать то, что могут чего-то не знать.
Самым удивительным для меня было отношение автора к гомеопатии, честно говоря я была шокирована, так как медицина доказала неэффективность данного метода лечения намного позже, а автор относился с недоверием еще в начале двадцатого века, это вызывает уважение и еще раз указывает на актуальность произведения.
Поделиться
Tin-tinka
Оценил книгу
Есть несколько авторов, к которым я стараюсь возвращаться каждый год, с удовольствием открывая для себя новые произведения. Викентий Вересаев - один из них и данная книга, несмотря на печальное содержание, тоже оставила яркое впечатление. Наверное, напиши ее иной автор, столь высокую оценку я бы не поставила, потому что вещь очень минорная, содержащая множество критических наблюдений за действительностью: если описывать ее кратко, то получается "все плохо-плохо-плохо". Столь пессимистичное отношение к реальности мне чуждо и чтение было весьма трудным, я погружалась в тоску и горечь, ведь то, что происходило тогда, в прошлом столетии, весьма напоминает и текущие события, можно отметить множество моментов, которые характерны для нашей современности, не говоря уж про людские характеры, которые, наверное, вообще не меняются.
Раньше говорили, что японцы – природные моряки, что мы их будем бить на суше; потом стали говорить, что японцы привыкли к горам, что мы их будем бить на равнине. Теперь говорили, что японцы привыкли к лету и мы будем их бить зимою. И все старались верить в зиму.цитаты
свернутьКругом, в интеллигенции, было враждебное раздражение отнюдь не против японцев. Вопрос об исходе войны не волновал, вражды к японцам не было и следа, наши неуспехи не угнетали; напротив, рядом с болью за безумно-ненужные жертвы было почти злорадство. Многие прямо заявляли, что для России полезнее всего было бы поражение. При взгляде со стороны, при взгляде непонимающими глазами, происходило что-то невероятное: страна борется, а внутри страны ее умственный цвет следит за борьбой с враждебно-вызывающим вниманием. Иностранцев это поражало, «патриотов» возмущало до дна души, они говорили о «гнилой, беспочвенной, космополитической русской интеллигенции». Но у большинства это вовсе не было истинным, широким космополитизмом, способным сказать и родной стране: «ты не права, а прав твой враг»; это не было также органическим отвращением к кровавому способу решения международных споров. Что тут, действительно, могло поражать, что теперь с особенною яркостью бросалось в глаза, – это та невиданно-глубокая, всеобщая вражда, которая была к начавшим войну правителям страны: они вели на борьбу с врагом, а сами были для всех самыми чуждыми, самыми ненавистными врагами.
В солдатских вагонах шло непрерывное пьянство. Где, как доставали солдаты водку, никто не знал, но водки у них было сколько угодно. Днем и ночью из вагонов неслись песни, пьяный говор, смех. При отходе поезда от станции солдаты нестройно и пьяно, с вялым надсадом, кричали «ура», а привыкшая к проходящим эшелонам публика молча и равнодушно смотрела на них.
Тот же вялый надсад чувствовался и в солдатском веселье. Хотелось веселиться вовсю, веселиться все время, но это не удавалось. Было пьяно, и все-таки скучно.
Во всех эшелонах шло такое же пьянство, как и в нашем. Солдаты буйствовали, громили железнодорожные буфеты и поселки. Дисциплины было мало, и поддерживать ее было очень нелегко. Она целиком опиралась на устрашение, – но люди знали, что едут умирать, чем же их было устрашить? Смерть – так ведь и без того смерть; другое наказание, – какое ни будь, все-таки же оно лучше смерти. И происходили такие сцены.
Начальник эшелона подходит к выстроившимся у поезда солдатам. На фланге стоит унтер-офицер и… курит папироску.
— Это что такое? Ты – унтер-офицер! – не знаешь, что в строю нельзя курить?..
— Отчего же… пфф! пфф!.. отчего же это мне не курить? – спокойно спрашивает унтер-офицер, попыхивая папироскою. И ясно, он именно добивается, чтоб его отдали под суд.Вдруг вижу, – от кустов бежит через поляну к вагонам несколько наших солдат, и у каждого в руках огромная охапка сена.
— Эй! Бросьте сено! – крикнул я.
Они продолжали бежать к поезду. Из солдатских вагонов слышались поощрительные замечания.
— Нет уж! Добежали, – теперь сено наше!
Из окна вагона с любопытством смотрели главный врач и смотритель.
— Сейчас же бросить сено, слышите?! – грозно заорал я.
Солдаты побросали охапки на откос и с недовольным ворчанием полезли в двинувшийся поезд. Я, возмущенный, вошел в вагон.
— Черт знает, что такое! Здесь уж, у своих, начинается мародерство! И как бесцеремонно, – у всех на глазах!
— Да ведь тут сену цена грош, оно все равно сгниет в копнах, – неохотно возразил главный врач.
Я удивился:
— То есть, как это? Позвольте! Вы же вчера только слышали, что рассказывал крестьянский начальник: сено, напротив, очень дорого, косить его некому; интендантство платит по сорок копеек за пуд. А главное, ведь это же мародерство, этого в принципе нельзя допускать.Я ждал, что главный врач и смотритель возмутятся, что они соберут команду, строго и решительно запретят ей мародерствовать. Но они отнеслись к происшедшему с глубочайшим равнодушием. Денщик, слышавший наш разговор, со сдержанною усмешкой заметил мне:
— Для кого солдат тащит? Для лошадей. Начальству же лучше, – за сено не платить.
Тогда мне вдруг стало понятно и то, что меня немножко удивило три дня назад: главный врач на одной маленькой станции купил тысячу пудов овса по очень дешевой цене; он воротился в вагон довольный и сияющий.
— Купил сейчас овес по сорок пять копеек! – с торжеством сообщил он.
Меня удивило, – неужели он так радуется, что сберег для казны несколько сот рублей? Теперь его восторг становился мне более понятным.
На каждой станции солдаты тащили все, что попадалось под руку. Часто нельзя было даже понять, для чего это им. Попадается собака, – они подхватывают ее и водворяют на вагоне-платформе между фурами; через день-другой собака убегает, солдаты ловят новую. Как-то заглянул я на одну из платформ: в сене были сложены красная деревянная миска, небольшой чугунный котел, два топора, табуретка, шайки. Это все была добыча.Оказалось, пока Кучеренко отвлекал на себя внимание жителей поселка, другие солдаты очищали их дворы от птичьей живности. Сестры начали стыдить солдат, говорили, что воровать нехорошо.
— Ничего нехорошего! Мы на царской службе, что ж нам есть? Вон, три дня уж горячей пищи не дают, на станциях ничего не купишь, хлеб невыпеченный. С голоду, что ли, издыхать?
Когда мы были под Красноярском, стали приходить вести о Ляоянском бое. Сначала, по обычаю, телеграммы извещали о близкой победе, об отступающих японцах, о захваченных орудиях. Потом пошли телеграммы со смутными, зловещими недомолвками, и наконец – обычное сообщение об отступлении «в полном порядке». Жадно все хватались за газеты, вчитывались в телеграммы, – дело было ясно: мы разбиты и в этом бою, неприступный Ляоян взят, «смертоносная стрела» с «туго натянутой тетивы» бессильно упала на землю, и мы опять бежим.
Но при этом именно личность автора, его собственные переживания от увиденного и услышанного, отсутствие злорадства, а лишь сочувствие проблемам страны, надежда на возможность исправления и вера в лучшее будущее давали мне силы продолжать чтение.
Что касается сюжета, то стоит отметить, что писатель, будучи сам призван в армию в качестве младшего ординатора, частично описывает увиденное лично, частично пересказывает истории, которыми с ним делились военные, частично опирается на прессу и официальные приказы. Вересаев отмечает большой разрыв между положением солдат и офицеров, дистанцию, которая разделяла народ, ведь одни были "низшим сословием", другие - "ваше благородие". И вопрос не только в оплате, хотя те копейки, которые получали солдаты, не могут не удивлять, особенно, если сравнивать с жалованием иностранных военных, а именно в отношении, которое, по мнению автора, аукнулось офицерам в дни поражений и смуты.
Чем больше у тебя есть, тем больше тебе дастся, – вот было у нас основное руководящее правило. Чем выше по своему положению стоял русский начальник, тем больше была для него война средством к обогащению: прогоны, пособия, склады, – все было сказочно щедро. Для солдат же война являлась полным разорением, семьи их голодали, пособия из казны и от земств были до смешного нищенские и те выдавались очень неаккуратно, – об этом из дому то и дело писали солдатам.
Наш главнокомандующий получал в год 144 тысячи рублей, каждый из командующих армией – по сто тысяч с чем-то. Командир корпуса получал 28–30 тысяч. Лейб-акушер проф. Отт, как сообщали «Новости», был командирован на несколько месяцев на Дальний Восток для осмотра врачебных учреждений с окладом в 20 тыс. руб. в месяц! С изумлением читали мы в иностранных газетах, что у японцев маршалы и адмиралы получают в год всего по шесть тысяч рублей, что месячное жалованье японских офицеров – около тридцати рублей. Один русский корпусный командир получал больше, чем Того, Ноги, Куроки и Нодзу, взятые вместе. Зато солдатам своим японская казна платила по пять рублей в месяц, наш же солдат получал в месяц «по усиленному окладу»… сорок три с половиной копейка!..
Много пишет Вересаев об отсутствии понимания цели войны, о том, что моральный дух армии был низок, что каждый пытался урвать свое, обмануть казну и провернуть махинации, чтобы государственные деньги превратить в свои личные.
цитатысвернутьВ нашей канцелярии, под руководством полкового делопроизводителя, с утра до ночи кипела темная работа. Составлялись отчетные ведомости, фабриковались счета. Если для подписания счета не находили китайца, то поручали сделать это старшему писарю; он скопировывал несколько китайских букв с длинных красных полосок, в обилии украшавших стены любой китайской фанзы.
Штабс-капитан громко, на всю залу, говорил:
— Японские офицеры отказались от своего содержания в пользу казны, а сами перешли на солдатский паек. Министр народного просвещения, чтобы послужить родине, пошел на войну простым рядовым. Жизнью своею никто не дорожит, каждый готов все отдать за родину. Почему? Потому что у них есть идея. Потому что они знают, за что сражаются. И все они образованные, все солдаты грамотные. У каждого солдата компас, план, каждый дает себе отчет в заданной задаче. И от маршала до последнего рядового, все думают только о победе над врагом. И интендантство думает об этом же.Штабс-капитан говорил то, что все знали из газет, но говорил так, как будто он все это специально изучил, а никто кругом этого не знает. У буфета шумел и о чем-то препирался с буфетчиком необъятно-толстый, пьяный капитан.
— А у нас что? – продолжал штабс-капитан. – Кто из нас знает, зачем война? Кто из нас воодушевлен? Только и разговоров, что о прогонах да о подъемных. Гонят нас всех, как баранов. Генералы наши то и знают, что ссорятся меж собою. Интендантство ворует. Посмотрите на сапоги наших солдат, – в два месяца совсем истрепались. А ведь принимало сапоги двадцать пять комиссий!
— И забраковать нельзя, – поддержал его наш главный врач. – Товар не перегорелый, не гнилой.
— Да. А в первый же дождь подошва под ногою разъезжается… Ну-ка, скажите мне, пожалуйста, – может такой солдат победить или нет?— И как хотите, господа, – своим полным, самоуверенным голосом заявил смотритель. – Дело вовсе не в сапогах, а в духе армии. Хорош дух, – и во всяких сапогах разобьешь врага.
— Босой, с ногами в язвах, не разобьешь, – возразил штабс-капитан.
— А дух хорош? – с любопытством спросил подполковник.
— Мы сами виноваты, что нехорош! – горячо заговорил смотритель. – Мы не сумели воспитать солдата. Видите ли, ему идея нужна! Идея, – скажите, пожалуйста! И нас, и солдат должен вести воинский долг, а не идея. Не дело военного говорить об идеях, его дело без разговора идти и умирать.Команду вел один поручик. Чтобы не заботиться о довольствии солдат, он выдавал им на руки казенные 21 копейку и предоставлял им питаться, как хотят. На каждой станции солдаты рыскали по платформе и окрестным лавочкам, раздобывая себе пищи.
Но на такую массу людей припасов не хватало. На эту массу не хватало не только припасов, – не хватало кипятку. Поезд останавливался, из вагонов спешно выскакивали с чайниками приземистые, скуластые фигуры и бежали к будочке, на которой красовалась большая вывеска: «кипяток бесплатно».
— Давай кипятку!
— Кипятку нет. Греют. Эшелоны весь разобрали.
Одни вяло возвращались обратно, другие, с сосредоточенными лицами, длинной вереницей стояли и ждали.
Иногда дождутся, чаще нет и с пустыми чайниками бегут к отходящим вагонам.— Из обозных лошадей двадцать две самых лучших мы продали и показали, что пять сбежало, а семнадцать подохло от непривычного корма. Пометили: «протоколов составлено не было». Подпись командира полка… А сейчас у нас числится на довольствии восемнадцать несуществующих быков.
Шанцер возмущался прямо эстетически.
— И что им, ворам, до наступления маньчжурской армии! Как они могут об этом говорить и смотреть друг другу в глаза?.. И я не понимаю: ведь вот Давыдов каждый месяц посылает жене по полторы, по две тысячи рублей: она же знает, что жалованья он получает рублей пятьсот. Что он ей скажет, если жена спросит, откуда эти деньги? Что будет делать, если об этом случайно узнают его дети?
О плохом отношении к местным жителям, о том, что разворовывалось все у китайцев, поэтому "защитники" часто были ничем не лучше "врагов", оттого столь жестоки были к российским военным хунхузы.
О, эти хунхузы, шпионы, сигнальщики! Как бы их было ничтожно мало, как бы легко было с ними справляться, если бы русская армия хоть в отдаленной мере была тою внешне и морально дисциплинированной армией, какою ее изображали в газетах лживые корреспонденты-патриоты.
Не обошлось тут без многочисленных описаний кумовства, рассказов о том, как благодаря связям получали должности, как множество "левых" людей сопровождали армию, при этом являясь нахлебниками, от которых совсем мало было толка. Особенно это касалось дам высшего общества, например, лично Вересаев сталкивался с женщиной, которая при влиятельном дяде занимала должность старшей сестры и получала множественные привилегии, коих были лишены простые люди, а так же с содержанкой, которая, практически не скрываясь, сопровождала своего покровителя.
Вообще о женщинах в армии Вересаев рассказывает весьма критически, что позволяет несколько иначе взглянуть на "эмансипированных" дам прошлого. В отличие от медсестер ВОВ женщины во время Русско-японской войны были скорее "цветами", скрашивающими часы досуга офицеров, утешительницами и ангелами милосердия. Всю тяжёлую работу выполняли фельдшеры низших чинов, но их работа, по горькому замечанию писателя, осталась недооценена, а вот аристократические дамочки получали множество медалей, щеголяя перед друг другом и добиваясь через влиятельных друзей разных наград.
цитатысвернутьМы обошли всю деревню. После долгих поисков помощник смотрителя нашел на одном дворе, рядом с султановскими фанзами, две убогих, тесных и грязных лачуги. Больше поместиться было негде. Солдаты располагались биваком на огородах, наши денщики чистили и выметали лачуги, заклеивали бумагою прорванные окна.
Мы пошли посмотреть фанзы, охранявшиеся для Султанова. Помещения были чистые, просторные и роскошные. Караульные рассказали нам, что перед въездом сюда корпусного командира целая рота саперов три дня отделывала эти помещения. Теперь стало понятно, почему так обрадовалась Новицкая полученному приказу, за что передавала она благодарность командиру корпуса; и стало также понятно это бессмысленное передвижение госпиталей всего за две версты. В прежней деревне весь персонал султановского госпиталя теснился, как и мы, в одной фанзе, и это, конечно, не могло нравиться Новицкой. Возникал невероятный вопрос: неужели сотни людей так легко перебрасываются с места на место по мановению одного тонкого белого пальчика сестры Новицкой? Впоследствии мы не раз имели случаи убедиться, какая волшебно-огромная сила заключалась в этом пальчике.
Вообще, как отмечает автор, на той войне так щедро награждали, что ценность орденов среди военнослужащих весьма упала. Причем выдавали не за подвиги, а иногда просто так, первым, кто попадался начальству под руку, например, когда заходил генерал в палату к раненным, все получали награды, без разбора, получил ли травму солдат на поле боя или же по пьяни, неудачно упав.
Множество наград получали "тыловые крысы", тут про них тоже будут отдельные критические замечания, про то, как больных, пожилых и негодных к службе людей гнали на передовую, а молодые кадровые военные предпочитали отсиживаться в штабах и занимали теплые местечки при руководстве.
цитатысвернутьРаненых привозили мало, прибывали больше больные. Прибывали они с сильно запущенными ревматизмами, бронхитами, дизентерией, ноги у всех были опухшие от долгого и неподвижного сидения в окопах. Больных отправляли в госпитали с большою неохотою; солдаты рассказывали: все сплошь страдают у них поносами, ломотою в суставах, кашель бьет непрерывно; просится солдат в госпиталь, полковой врач говорит: «Ты притворяешься, хочешь удрать с позиций». И отправляли больного в госпиталь только тогда, когда больного приходилось нести уже на носилках.
Однажды вечером в нашу деревню пришел с позиций на отдых пехотный полк. Солнце село, запад был ярко-оранжевый, на мокрой земле уже лежала темнота. Ряды черных фигур в косматых папахах, с иглами штыков, появлялись на невысоком холме, вырезывались на огне зари, спускались вниз и тонули во мраке; над черным горизонтом двигались дальше только черные папахи и острый лес винтовок. Солдаты шли странным, шатающимся шагом, и непрерывный кашель вился над полком. Это был сплошной сухо-прыгающий шум, никогда я не слышал ничего подобного! И мне стало понятно: ведь всех этих солдат, всех сплошь, нужно положить в госпиталь; если отправлять заболевающих, то от полка останется лишь несколько человек. И вот, значит, сиди в окопах больной, стынь, мокни, пока хватает сил, а там уходи калекою на всю жизнь. И в этом чувствовалась жуткая, но железно-последовательная логика: если людей бросают под вихрь буравящих насквозь пуль, под снаряды, рвущие тело в куски, то почему же останавливаться перед безвозвратно ломающею болезнью? Мерка только одна, – годен ли еще человек в дело. А дальше все равно.
И вот, постепенно и у врача создавалось совсем особенное отношение к больному. Врач сливался с целым, переставал быть врачом и начинал смотреть на больного с точки зрения его дальнейшей пригодности к «делу». Скользкий путь. И с этого пути врачебная совесть срывалась в обрывы самого голого военно-полицейского сыска и поразительного бездушия.По дороге в Маньчжурию и здесь, в самой Маньчжурии, всех нас очень удивляло одно обстоятельство. Армия испытывала большой недостаток в офицерском составе; раненых офицеров, чуть оправившихся, снова возвращали в строй; эвакуационные комиссии, по предписанию свыше, с каждым месяцем становились все строже, эвакуировали офицеров все с большими трудностями. Здесь к нам то и дело обращались за врачебными советами строевые офицеры, – хворые, часто совсем больные. Из прибывших сюда к началу войны многие были до того переутомлены, что, как счастья, ждали раны или смерти.
А рядом с этим масса здоровых, цветущих офицеров занимала покойные и безопасные должности в тылу армии. И что особенно удивительно, – на этих тыловых должностях офицеры и жалованье получали гораздо большее, чем в строю. Офицеры наполняли интендантства, были смотрителями госпиталей и лазаретов, комендантами станций, этапов, санитарных поездов, заведовали всевозможными складами, транспортами, обозами, хлебопекарнями. Здесь, где их дело легко могли исполнять и чиновники, наличность офицеров считалась необходимой. А в боях ротами командовали зауряд-прапорщики, т. е. нижние чины, только на время войны произведенные в офицеры; для боя специально-военные познания офицеров как будто не признавались важными. Роты шли в бой с культурным, образованным врагом под предводительством нижних чинов, а в это время пышащие здоровьем офицеры, специально обучавшиеся для войны, считали госпитальные халаты и торговали в вагонах офицерских экономических обществ конфетами и чайными печеньями.
Конечно, не обошлось в книге без дураков и дорог, много пишет Вересаев про неорганизованность, формализм и бюрократизм, который приводил к массовой гибели людей. Про то, как "бумажка" была важнее фактической ситуации, что главным было отчитаться о том, что сделано, а не сделать это в действительности.
Одно, только одно горячее, захватывающее чувство можно было усмотреть в бесстрастных душах врачебных начальников, – это благоговейно-трепетную любовь к бумаге. Бумага была все, в бумаге была жизнь, правда, дело…цитаты
свернутьВ зале третьего класса стояли шум и споры. Иззябшие солдаты требовали от сторожа, чтобы он затопил печку. Сторож отказывался, – не имеет права взять дров. Его корили и ругали.
— Ну, и Сибирь ваша проклятая! – в негодовании говорили солдаты. – Глаза мне завяжи, я с завязанными глазами пешком домой бы пошел!
— Какая это моя Сибирь, я сам из России, – огрызался заруганный сторож.
— Что на него смотреть? Вон сколько дров наложено. Возьмем, да и затопим!
Но они не решились. Мы пошли к коменданту попросить дров, чтобы вытопить станцию: солдатам предстояло ждать здесь еще часов пять. Оказалось, выдать дрова совершенно невозможно, никак невозможно: топить полагается только с 1 октября, теперь же начало сентября. А дрова кругом лежали горами.
Подали наш поезд. В вагоне было морозно, зуб не попадал на зуб, руки и ноги обратились в настоящие ледяшки. К коменданту пошел сам главный врач требовать, чтобы протопили вагон. Это тоже оказалось никак невозможно: и вагоны полагается топить только с 1-го октября.
— Скажите мне, пожалуйста, от кого же это зависит разрешить протопить вагон теперь? – в негодовании спросил главный врач.
— Пошлите телеграмму главному начальнику тяги. Если он разрешит, я прикажу истопить.
— Виноват, вы, кажется, обмолвились! Не министру ли путей сообщения нужно послать телеграмму? А может быть, телеграмму нужно послать на высочайшее имя?
— Что ж, пошлите на высочайшее имя! – любезно усмехнулся комендант и повернул спину.Наш поезд двинулся. В студеных солдатских вагонах не слышно было обычных песен, все жались друг к другу в своих холодных шинелях, с мрачными, посинелыми лицами. А мимо двигавшегося поезда мелькали огромные кубы дров; на запасных путях стояли ряды вагонов-теплушек; но их теперь по закону тоже не полагалось давать.
Было по-прежнему студено, солдаты мерзли в холодных вагонах. На станциях ничего нельзя было достать, – ни мяса, ни яиц, ни молока. От одного продовольственного пункта до другого ехали в течение трех-четырех суток. Эшелоны по два, по три дня оставались совсем без пищи. Солдаты из своих денег платили на станциях за фунт черного хлеба по девять, по десять копеек.
Но хлеба не хватало даже на больших станциях. Пекарни, распродав товар, закрывались одна за другою. Солдаты рыскали по местечку и Христа-ради просили жителей продать им хлеба.
Здесь подряд произошло три обвала. Почему три, почему не десять, не двадцать? Смотрел я на этот наскоро, кое-как пробитый в горах путь, сравнивал его с железными дорогами в Швейцарии, Тироле, Италии, и становилось понятным, что будет и десять, и двадцать обвалов. И вспоминались колоссальные цифры стоимости этой первобытно-убогой, как будто дикарями проложенной дороги.
Подполковник подсел и тоже стал смотреть.
— Скажите, пожалуйста, – в Харбин мы приедем вовремя, по маршруту? – спросил его д-р Шанцер.
Подполковник удивленно поднял брови.
— Вовремя?.. Нет! Дня на три, по крайней мере, запоздаете.
— Почему? Со станции Маньчжурия мы едем очень аккуратно.
— Ну, вот скоро сами увидите! Под Харбином и в Харбине стоит тридцать семь эшелонов и не могут ехать дальше. Два пути заняты поездами наместника Алексеева, да еще один – поездом Флуга. Маневрирование поездов совершенно невозможно. Кроме того, наместнику мешают спать свистки и грохот поездов, и их запрещено пропускать мимо. Все и стоит… Что там только делается! Лучше уж не говорить.
Он резко оборвал себя и стал крутить папиросу.
— Что же делается?
Подполковник помолчал и глубоко вздохнул.
— Видел на днях сам, собственными глазами: в маленьком, тесном зальце, как сельди в бочке, толкутся офицеры, врачи; истомленные сестры спят на своих чемоданах. А в большой, великолепный зал нового вокзала никого не пускают, потому что генерал-квартирмейстер Флуг совершает там свой послеобеденный моцион! Изволите видеть, наместнику понравился новый вокзал, и он поселил в нем свой штаб, и все приезжие жмутся в маленьком, грязном и вонючем старом вокзале!
Подполковник стал рассказывать. Видимо, у него много накипело в душе. Он рассказывал о глубоком равнодушии начальства к делу, о царящем повсюду хаосе, о бумаге, которая душит все живое, все, желающее работать. В его словах бурлило негодование и ненавидящая злоба.Цены на все были бешеные, стол отвратительный. Мы хотели отдать выстирать белье, сходить в баню, – обратиться за справками было не к кому, При любом научном съезде, где собираются всего одна-две тысячи людей, обязательно устраивается справочное бюро, дающее приезжему какие угодно указания и справки. Здесь же, в тыловом центре полумиллионной армии, приезжим предоставлялось наводить справки у станционных сторожей, жандармов и извозчиков.
Поражало отсутствие элементарной заботливости власти об этой массе людей, заброшенных сюда этою же властью. Если не ошибаюсь, даже «офицерские этапы», лишенные самых простых удобств, всегда переполненные, были учреждены уже много позднее. В гостиницах за жалкий чулан платили в сутки по 4–5 рублей, и далеко не всегда можно было раздобыть номер; по рублю, по два платили за право переночевать в коридоре. В Телине находилось главное полевое военно-медицинское управление. Приезжало много врачей, вызванных из запаса «в распоряжение полевого военно-медицинского инспектора». Врачи являлись, подавали рапорт о прибытии, – и девайся, куда знаешь. Приходилось ночевать на полу в госпиталях, между койками больных.
О том, что было мало толковых управляющих, знающих военных в руководстве, что начальником всей санитарной части армии был назначен человек, не имеющий отношения к медицине.
цитатысвернутьВ наш госпиталь шли больные, изредка попадали и раненые. Лечить ли их на месте или эвакуировать в тыл? Это был вопрос чрезвычайно сложный, насчет которого начальство никак не могло столковаться. Приезжал корпусный врач, узнавал, что мы эвакуируем больных, – и разносил. «У вас госпиталь, а вы его обращаете в какой-то этапный пункт! Для чего же у вас врачи, сестры, аптека?!» Приезжал начальник санитарной части Трепов, узнавал, что больные лежат у нас пять-шесть дней, – и разносил. «Почему больные лежат у вас так долго, почему вы их не эвакуируете?» На эвакуации он был положительно помешан.
Генерал Трепов был главным начальником всей санитарной части армии. Какими он обладал данными для заведования этою ответственною частью, навряд ли мог бы сказать хоть кто-нибудь. В начальники санитарной части он попал не то из сенаторов, не то из губернаторов, отличался разве только своею поразительною нераспорядительностью, в деле же медицины был круглый невежда. Тем не менее генерал вмешивался в чисто медицинские вопросы и щедро рассыпал выговоры врачам за то, в чем был совершенно некомпетентен.
Чтобы быть даже фельдшером или сестрою милосердия, чтоб нести в врачебном деле даже чисто исполнительные обязанности, требуются специальные знания. Для несения же самых важных и ответственных врачебных функций в полумиллионной русской армии никаких специальных знаний не требовалось; для этого нужно было иметь только соответственный чин.
О своем медицинском опыте пишет Вересаев весьма мало, как ни странно, у врача почти не было возможности лечить, так как передвижные госпитали по большей части только сортировали раненных, несчастных солдат постоянно перемещали с места на место и важнее было показать, сколько было отправлено больных на следующий этап, чем сколько смогли вылечить (такой задачи там, где работал Вересаев, вообще не было). В тексте множество замечаний о напрасной гибели людей из-за бесконечных транспортировок, о том, как умирали солдаты, замерзая в вагонах, как наряду с несколькими современными вагонами, людей перевозили в неотапливаемых, необорудованных вагонах для скота.
При этом весьма контрастно выглядит финал книги, ведь автор симпатизирует и верит в народное самоуправление, в демократию и пишет о том, как смогли навести порядок стачечные комитеты.
Но с грустью отмечает и потерю военной дисциплины в последние дни войны, из-за чего офицерам стало опасно находиться среди солдат, как озлобленные плохим обращением и отсутствием пропитания, нормальных удобств, люди срывали зло на первом попавшемся офицере, так что часто случались стычки, заканчивающиеся убийствами.
Но не менее кровавыми были и репрессивные меры, попытки навести порядок и наказать "виновных".
Про эту книгу можно долго рассказывать и приводить массу цитат, но думаю, правильнее будет просто порекомендовать ее читателям, которые любят классику и историческую литературу, интересуются военными книгами, но все же далеки от нон-фикшена. Вересаев смог весьма увлекательно рассказать о сложном периоде нашей истории, так что было любопытно узнать взгляд на прошлое очевидца, сравнить Русско-японскую войну с ВОВ и увидеть некие закономерности российского общества, мало подверженные изменениям.
цитатысвернутьНет, это не была несчастная случайность. Если заставить слепых людей бежать по полю, изрытому ямами, то не будет несчастною случайностью, что люди то и дело станут попадать в ямы. Русский же солдат находился именно в подобном положении, и катастрофы были неизбежны.
Вся война была одним сплошным рядом такого рода катастроф. Выяснялось с полною очевидностью, что для победы в современной войне от солдата прежде всего требуется не сила быка, не храбрость льва, а развитый, дисциплинированный разум человека. Этого-то у русского солдата и не оказалось. Поразительно прекрасный в своем беззаветном мужестве, в железной выносливости, – он был жалок и раздражают. своей некультурностью и умственною мешковатостью.
Если бы даже вся организация нашей армии представляла собою на диво стройную, прекрасно налаженную машину, – а в действительности и машина-то была на диво неуклюжая и неслаженная, – то и тогда это невежество солдата было бы песком, тершимся между всех колесиков машины.
Поделиться
Tin-tinka
Оценил книгу
...все теперешнее поколение переживает то же, что я: у него ничего нет, – в этом его ужас и проклятие. Без дороги, без путеводной звезды, оно гибнет невидно и бесповоротно… Пусть она посмотрит на теперешнюю литературу, – разве это не литература мертвецов, от которых ничего уже нельзя ждать? Безвременье придавило всех, и напрасны отчаянные попытки выбиться из-под его власти
Гуляя по Туле, я набрела на дом-музей Викентия Викентьевича Вересаева, что определило выбор следующего автора для чтения. И чем больше я изучаю произведения данного писателя, тем больше очаровываюсь, ведь он не только выбирает сложные, неоднозначные темы, связанные с прошлым нашей страны, с поиском идей и пути для интеллигенции, но и описывает происходящее так талантливо, что проникаешься переживаниями героев, вместе с ними решаешь моральные дилеммы, чувствуешь опустошенность или, наоборот, прилив веры в людей.
В этой повести мы знакомимся с молодым врачом Дмитрием Чекановым, который ощущает потерю доверия к народническим принципам, испытывает сомнения в своих убеждениях, ведь дело происходит в начале 90-х годов ХIX века, когда наблюдался спад общественного движения, наступило повсеместное разочарование в прошлых политических идеалах и вовсю расцвели упаднические настроения.
цитатысвернутьВремя тяжелое, глухое и сумрачное со всех сторон охватывало меня, и я со страхом видел, что оно посягает на самое для меня дорогое, посягает на мое миросозерцание, на всю мою душевную жизнь…
Каким чудом могло случиться, что в такой короткий срок все так изменилось? Самые светлые имена вдруг потускнели, слова самые великие стали пошлыми и смешными; на смену вчерашнему поколению явилось новое, и не верилось: неужели эти – всего только младшие братья, вчерашних. В литературе медленно, но непрерывно шло общее заворачивание фронта, и шло вовсе не во имя каких-либо новых начал, – о нет! Дело было очень ясно: это было лишь ренегатство – ренегатство общее, массовое и, что всего ужаснее, бессознательное. Литература тщательно оплевывала в прошлом все светлое и сильное, но оплевывала наивно, сама того не замечая, воображая, что поддерживает какие-то «заветы»; прежнее чистое знамя в ее руках давно уже обратилось в грязную тряпку, а она с гордостью несла эту опозоренную ею святыню и звала к ней читателя; с мертвым сердцем, без огня и без веры, говорила она что-то, чему никто не верил…
Писатель рисует портрет неравнодушного к горестям других человека, для которого уйти в работу, «наркотизироваться» ею - единственный способ сохранить себя и отчасти спрятаться от жизни, которая ставит перед ним сложные моральные вопросы. Но и работа не приносит покоя, ведь, видя тяжелое положение крестьян, сталкиваясь с явным противодействием земского начальства, ощущая свою беспомощность, герой понимает, что надо предпринимать что-то иное, чтобы исправить несправедливость окружающей действительности.
Рассказывать ли тебе, как я прожил эти три года? Я только обманывал себя «делом»; в душе все время какой-то настойчивый голос твердил, что это не то, что есть что-то гораздо более важное и необходимое; но где оно? Я потерял надежду найти. Боже мой, как это тяжело! Жить – и ничего не видеть впереди; блуждать в темноте, горько упрекать себя за то, что нет у тебя сильного ума, который бы вывел на дорогу, – как будто ты в этом виноват. А между тем идет время…цитаты
Я рассказывал о своей службе, о голоде и голодном тифе, о том, как жалко было при этом положение нас, врачей: требовалось лишь одно – кормить, получше кормить здоровых, чтоб сделать их более устойчивыми против заражения; но пособий едва хватало на то, чтоб не дать им умереть с голоду. И вот одного за другим валила страшная болезнь, а мы беспомощно стояли перед нею со своими ненужными лекарствами…свернуть
... Россию посетил голод, какого давно уже не бывало. Народ питается глиной и соломою, сотнями мрет от цинги и голодного тифа. Общество, живущее трудом этого народа, показало, как вам известно, свою полную нравственную несостоятельность. Даже при этом всенародном бедствии оно не сумело возвыситься до идеи, не сумело слиться с народом и прийти к нему на помощь, как брат к брату. Оно отделывалось пустяками, чтоб только усыпить свою совесть: танцевало в пользу умирающих, объедалось в пользу голодных, жертвовало каких-нибудь полпроцента с жалованья. Да и эти крохи оно давало народу, как подачку, и только развращало его, потому что всякая милостыня есть разврат. В настоящее время народ еще не оправился от беды, во многих губерниях вторичный неурожай, а идет новая, еще худшая беда – холера…
Но что делать, куда приложить силы, где та идея, которая выведет из тьмы – герой не знает, не может объяснить он это и юной Наташе, в которой горит жажда деятельности, потребность разорвать цепи своей среды, родительского контроля.
цитатаЭтою весною проект о женском медицинском институте был возвращен государственным советом; решение вопроса отодвинулось на неопределенное время. Наташа решила ехать хоть на Рождественские курсы лекарских помощниц. Но для поступления туда требуется родительское разрешение. Когда Наташа заговорила с дядей о курсах, он желчно рассмеялся и сказал, что просьба Наташи его очень удивляет: как это она, «такая самостоятельная», снисходит до просьб! Наташа возразила, что просит она у него только разрешения, содержать же себя будет сама (у нее было накоплено с уроков около трехсот рублей). Дядя отказался наотрезсвернуть
Первая часть повести вышла весьма поэтичной: тут и прогулки под луной, беседы у костра, свежесть росы и юных дев, все это словно пробуждение к жизни, которое так необходимо уставшему, не до конца оправившемуся после болезни Чеканову. Но даже в столь райском уголке не получается забыться, словно раскаты грома слышны отзвуки приближающейся холеры и врач принимает единственное возможное для него решение – идти в народ, спасать тех, кому он может помочь. Так же, как и на заре своей врачебной деятельности, он осознает весь риск такого поступка - не только его слабое здоровье представляет опасность, но и настроения ограниченных, озлобленных и напуганных мужиков.
цитатысвернутьДа вы, батенька, знаете ли, что такое земская служба? – говорил он, сердито сверкая на меня глазами. – Туда идти, так прежде всего здоровьем нужно запастись бычачьим: промок под дождем, попал в полынью, – выбирайся да поезжай дальше: ничего! Ветром обдует и обсушит, на постоялом дворе выпьешь водочки, – и опять здоров. А вы посмотрите на себя, что у вас за грудь: выдуете ли вы хоть две-то тысячи в спирометр? Ваше дело – клиника, лаборатория. Поедете, – в первый же год чахотку наживете
Они и не скрывают ничего, прямо говорят: если у нас холера объявится, мы всех докторов перебьем. Шутки, батюшка мой, плохие! До чего ж вам лучше? Из местных врачей в Чемеровку никто не хочет идти.
Виктор Сергеевич стал рассказывать о разразившихся на Поволжье беспорядках, где толпа, обезумев от горя и ужаса, разбивала больницы и в клочки терзала людей, шедших к ней на помощь.
Вторая часть повести посвящена всем трудностям работы врача, отсутствию профессиональных помощников, дремучести людей, которые скорее поверят в злой умысел доктора, чем в необходимость дезинфекции.
цитатысвернутьТяжело и неприятно было на душе: как все неустроенно, неорганизованно! Нужно еще отыскать надежных людей, воспитать их, внушить им правильное понимание своих обязанностей; а дело тем временем идет через пень колоду, положиться не на кого…
Не знаю, испытывают ли это другие: все, что мы делаем, все это бесполезно и не нужно, всем этим мы лишь обманываем себя. Какая, например, польза от нашей дезинфекции? Разве не ясно, что она лишь тогда имеет смысл, когда само население глубоко верит в ее пользу?... Главное, как заставить их убедиться в пользе того, что для них делаешь? Как дезинфицировать отхожее место, если его нет и зараза беспрепятственно сеялась по всему двору и под всеми заборами улицы? А между тем видишь, что будь только со стороны жителей желание, – и дело бы шло на лад, и можно бы принести существенную пользу… Тонешь и задыхаешься в массе мелочей, с которыми ты не в состоянии ничего поделать; жаль, что не чувствуешь себя способным сказать: «Э, моя ли в том вина? Я сделал, что мог!» – и спокойно делать «что можешь». Медленно, медленно подвигается вперед все – сознание собственной пользы, доверие ко мне; медленно составляется надежный санитарный отряд, на который можно бы положиться.
Финал этой повести весьма драматичен, он словно прививка от утопических мечтаний о мудрости народа-богоносца, но, несмотря на обиду, которую испытывает герой, тут все же есть и понимание бывших крепостных, и слова о необходимости любить ближнего.
спойлерсвернутьБей его!..» И они меня били, били! Били за то, что я пришел к ним на помощь, что я нес им свои силы, свои знания, – все… Господи, господи! Что же это, – сон ли тяжелый, невероятный, или голая правда?… Не стыдно признаваться, – я и в эту минуту, когда пишу, плачу, как мальчик. Да, теперь только вижу я, как любил я народ и как мучительно горька обида от него.
Пять недель! Я в пять недель думал уничтожить то, что создавалось долгими годами. С каких это пор привыкли они встречать в нас друзей, когда видели они себе пользу от наших знаний, от всего, что ставило нас выше их? Мы всегда были им чужды и далеки, их ничто не связывало с нами. Для них мы были людьми другого мира, брезгливо сторонящимися от них и не хотящими их знать. И разве это неправда? Разве иначе была бы возможна та до ужаса глубокая пропасть, которая отделяет нас от них?
Подводя итог, это отличная малая проза, которую рекомендую всем любителям русской классики, тем читателям, которые интересуются настроениями дореволюционной России.
Поделиться
О проекте
О подписке
Другие проекты