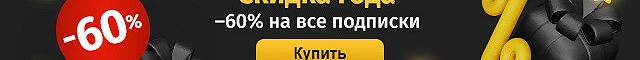
Глава 2
Александра
Бегу в кухню за телефоном и спешу в свою комнату, которая по совместительству является и гостиной. Крошечное пространство заставлено старыми, но уютными вещами: потертый диван с выцветшим пледом, небольшой стол с парой стульев у окна, на котором всегда лежат мои университетские книги. Шкаф-купе с дверцами, которые заедают, стоит в углу, рядом с ним – полка с бабушкиными банками, заполненными травами.
В воздухе пахнет мятой и липой – аромат детства, теплых вечеров у бабушки, но сейчас он не приносит утешения. В груди всё ещё неприятно сжимается от разговора с папой, будто кто-то сдавливает сердце ледяными пальцами.
Телефон в руках резко начинает звонить, его вибрация отдается в пальцах мелкой дрожью. Я вздрагиваю, и без того напряжённые нервы рвутся, как натянутая струна. Громкая, резкая мелодия неприятно режет уши, пробираясь под кожу. Господи, почему я всё время забываю её сменить?
На экране высвечивается незнакомый номер. Сердце срывается в бешеный ритм – может, это ответ по поводу работы?
– Алло? – голос звучит с надеждой, но внутри уже нарастает тревога. Если с Савиным не получится, должен быть запасной вариант…
– Ну что, где мои бабки?!
Мерзкий, глухой голос бывшего начальника врезается в уши, оставляя неприятный осадок, словно кто-то провёл ржавым лезвием по коже.
Я замираю. Горло сдавливает страх, сердце ухает вниз, в какой-то вязкий, ледяной омут.
– У меня пока нет денег! – голос предательски дрожит, переходя на срыв. – И ты прекрасно знаешь, что я ничего не брала!
– Слышь, не заливай мне тут! Подпись стоит твоя, значит, косяк твой! Если не вернёшь через три дня – всё отправится в полицию. Поняла?! Ты чё молчишь?! Поняла?!
Сердце глухо бухает в груди, а пальцы так сжимаются на телефоне, что костяшки белеют. В висках гулко пульсирует страх, отзываясь в теле ледяным ознобом. За слегка приоткрытым окном слышится рёв проезжающей машины, чей-то смех вдали, резкий лай собаки – мир живёт своей жизнью, не замечая, как моя собственная рушится под тяжестью этих слов.
– Поняла… – выдавливаю сдавленным голосом, едва сдерживая подступившие слёзы.
Резко отключаю телефон и с силой бросаю его на диван. Аппарат отскакивает и глухо падает на подушку.
Вот же урод! Мало того, что лапал меня при каждом удобном случае, теперь ещё и денег требует! Грязная, жалкая сволочь! Как только таких земля носит?!
Гнев и бессилие накатывают лавиной, сжимая кулаки так, что ногти врезаются в кожу. Перевожу дыхание, заставляя себя не разрыдаться прямо здесь, в этой убогой комнате, которая стала тюрьмой, набитой проблемами и страхами.
Взгляд цепляется за настенные часы. Чёрт! Если буду дальше копаться в эмоциях, точно опоздаю!
Бросаюсь в ванную, лихорадочно смывая с лица усталость ледяной водой. Капли бегут по коже, но не освежают, не прогоняют ни тревоги, ни бессонницу. Провожу ладонями по щекам, пытаясь вернуть лицу хоть каплю жизни, но отражение в зеркале неумолимо – бледность, тёмные круги под глазами, напряжённый взгляд.
Открываю шкаф, выискивая что-то подходящее для собеседования. Взгляд цепляется за простое, тёмно-синее платье. Оно старое, но аккуратное – длина чуть выше колена, скромный круглый вырез, короткие рукава. Когда-то оно сидело идеально, а теперь кажется чуть свободным, как будто вместе со мной похудело от тревог и забот. Вскакиваю в него, разглаживаю подол. Надо идти.
Рывком хватаю свою потёртую сумку, быстро обуваю чёрные туфли на небольшом каблуке и выбегаю за дверь.
Вызываю такси. На автобусе точно не успею.
Спустя некоторое время машина плавно останавливается у ресторана.
Где-то в глубине души теплится слабая надежда, что это заведение окажется обычным, но стоило выйти из машины – надежда рушится, словно карточный домик под порывом ветра.
Передо мной возвышается величественное здание с массивными колоннами и огромными окнами, сияющими в солнечном свете. Мраморный фасад, отполированный до зеркального блеска, отражает прохожих, дорогие автомобили и безупречно одетых гостей, заходящих внутрь. Сквозь прозрачные двери виден роскошный зал: сверкающие золотом люстры, мягкие бархатные кресла, белоснежные скатерти, словно выстиранные в росе.
Сердце сжимается.
Я терпеть не могу подобные места, пропитанные высокомерием и ложным блеском. Поэтому мне и не особо нравится работать в холдингах. Да, там зарплаты конечно намного больше, но тяжело работать не чувствую себя комфортно. Хотя горький опыт на предыдущей работе говорит о том, что и на выбранных мной небольших предприятиях тоже никакого комфорта. Разве деньги обязательно превращают людей в напыщенных павлинов? Стоит ли так выставлять своё превосходство?
Перед входом двое мужчин в дорогих костюмах ведут неспешную беседу, лениво переговариваясь и даже не удостаивая меня взглядом. Их спутницы – ухоженные, элегантные, с безупречной осанкой – смеются, покачивая головами, а их идеальные укладки даже не шелохнутся. Они не смотрят в мою сторону, но мне кажется, что их высокомерие ощутимо физически, как глухая стена, отделяющая их мир от моего.
Я глубоко вдыхаю. Воздух тёплый, но не приносит облегчения.
Соберись, Саша.
Толкаю тяжёлую стеклянную дверь и захожу внутрь.
Первое, что ударяет в нос – аромат свежемолотого кофе, ванильной выпечки и дорогого парфюма. Воздух насыщен лёгкостью и безмятежностью, будто здесь не бывает тревог, стрессов, пустых кошельков и неоплаченных счетов.
Люди неспешно сидят за столиками, попивая дорогой кофе из тонких чашек, перелистывая бумаги или лениво ведя беседы. Кто-то наслаждается поздним обедом, небрежно пролистывая что-то в телефоне. Здесь никто не спешит, никто не суетится, никто не вздрагивает от звонка с незнакомого номера.
А я… Я чувствую себя чужой.
Мои дешёвые туфли глухо стучат по сверкающему полу, и этот звук кажется мне оглушительно громким. Каждый шаг будто выдаёт меня – мою неуверенность, мою тревогу, моё отчаянное желание не выглядеть лишней.
В груди растёт желание развернуться и уйти.
Но я сжимаю кулаки.
Нет, Саша. Ты пришла сюда не для того, чтобы бояться.
Делаю медленный вдох, заставляя себя поднять голову. Вглядываюсь в зал, мысленно прокручивая его имя и отчество, чтобы не ошибиться.
И вот – нахожу его взглядом.
Савин сидит за столиком, погружённый в какие-то бумаги. Спина прямая, взгляд сосредоточенный, выражение лица – отстранённое.
Я сглатываю, разглаживаю подол скромного платья, как будто это может придать мне уверенности.
И, пересиливая себя, делаю шаг вперёд.
Глава 3
Дмитрий
Шесть месяцев… Вашей маме осталось около шести месяцев…
Слова врача застревают в голове, словно сотни мелких игл, раз за разом вонзающихся под кожу. Они повторяются эхом, терзают, душат.
Я откидываюсь на спинку кресла, вцепившись в руль так, что белеют костяшки пальцев. Внутри всё будто сжимается в плотный, неразрешимый узел.
Как так? Всё же было хорошо… Как болезнь могла вернуться? Спустя столько лет…
В висках пульсирует тупая, нарастающая боль. Мысли сбиваются в хаотичный рой, накрывают с головой, не давая дышать.
Я вспоминаю её голос – мягкий, тёплый, такой родной. Её улыбку – ту самую, спокойную, неизменно уверенную. Как она всегда говорила, что справится, что всё будет хорошо, что мы со всем справимся. Вспоминаю летние вечера, когда мы сидели на веранде у бабушки на даче, пили чай с малиной, и она рассказывала нам сказки, даже когда мы уже давно выросли из этого возраста. Как она пекла по воскресеньям пироги с яблоками, от которых пахло уютом и детством. Как гладила меня по голове, когда я уставал, как всегда знала, что сказать, даже когда мне казалось, что мир рушится.
Десять лет назад, когда мы впервые узнали о её болезни, я держался изо всех сил. Тогда мне казалось, что если я сломаюсь, всё рассыплется. Паша в свои восемнадцать вообще не понимал серьёзности происходящего. Он гулял, пил, влезал в какие-то неприятности, как будто пытался убежать от реальности. А Ритка… Ритке было всего двенадцать. Она вообще не осознавала, что происходит, просто видела, что мама стала уставать быстрее, что иногда ей приходилось лежать в больнице подолгу. Для неё всё это было чем-то далёким, абстрактным. А я…
Я помню всё. Каждую поездку в больницу. Запах лекарств, белые стены, её усталый, но всё такой же тёплый взгляд. Как она прятала от нас боль, улыбалась, даже когда ей было нестерпимо плохо. Как сжимала мою руку и говорила: "Ты справишься, Димочка. Ты сильный". А я должен был быть сильным. Для неё, для Паши, для Ритки. Для отца, который был сломлен. Я не имел права показывать страх, даже когда внутри всё сжималось от ужаса. Я ходил на работу, учился, приезжал в больницу, привозил ей пледы, фрукты, читал ей вслух, как в детстве она читала мне. А отец, в один момент замкнулся, стал реже к ней приходить, под предлогом занятости в холдинге. До сих пор не могу простить его за это, даже после его смерти. За то что мне приходилось успокаивать брата и сестру. Делал вид, что всё нормально, что мы справимся.
И мы справились. Тогда.
А если на этот раз – нет?
Руки с силой сжимают руль, словно это единственное, что может удержать меня в реальности. Салон машины кажется тесным, воздух – тяжёлым, словно не хватает кислорода.
И тут резкий звонок телефона разрывает вязкое оцепенение.
Я вздрагиваю, машинально смахиваю значок ответа, даже не глядя, кто звонит.
– Дим, ты где? – раздаётся в динамике раздражённый голос Кати.
Щурюсь, потираю переносицу.
– Здесь…
– В смысле «здесь»? Где здесь?
Мне хочется закрыть глаза, уйти от этой реальности хотя бы на секунду, но голос Кати вытягивает обратно.
– Кать, что случилось? Мне сейчас не до тебя.
На том конце провода повисает напряжённая пауза, но всего на секунду.
– Не знаю, что у вас там произошло, Дмитрий Аркадьевич, – чеканит она, переходя на сухой, почти официальный тон, – но у вас встреча через полчаса. Вы сами просили напомнить.
Я крепче стискиваю челюсти, сдерживая порыв раздражения.
– Чёрт… – тихо выдыхаю, прикрывая глаза. – Как я вообще мог забыть?
Катя слышит это и тут же подхватывает, в голосе сквозит ехидство:
– Неудивительно.
В другой ситуации меня бы это даже позабавило. Но не сейчас.
– Позвони и перенеси встречу на завтра.
– Как на завтра, Дим?! То есть, Дмитрий Аркадьевич! – в её голосе уже не просто раздражение, а явное негодование. – Ты знаешь, как долго мы организовывали эту встречу?! Просто взять и отменить?
Каждое её слово отзывается болезненным уколом. В груди растёт усталость, смешанная с злостью на себя, на болезнь, на чёртову реальность, которая рушится, не спрашивая разрешения.
Но Катя права.
Я глубоко вдыхаю, приказывая себе взять себя в руки.
– Ты права, – голос звучит глухо, чуждо. – Я буду. Я уже недалеко от офиса. Скоро буду в ресторане. Ты забронировала столик?
– Конечно, – раздражённо бросает она, и я даже представляю, как закатывает глаза. – Будем вас ждать.
Катя отключается, не дав мне даже договорить.
Я роняю телефон на пассажирское сиденье – с глухим стуком он отскакивает от кожи и застывает у самого края. Закрываю глаза, откидываясь на подголовник.
Катя…
С последнего корпоратива, когда мы напились и провели ночь вместе, она стала невыносимой. Напряжённые взгляды, глухая обида в голосе, постоянные попытки задеть или, наоборот, напомнить о той ночи намёками, которые я старательно игнорирую. Мы договорились забыть об этом, поставить точку, никогда больше не возвращаться к той ошибке. Но я вижу – ей с каждым днём всё сложнее разграничивать личное и рабочее.
Но мне сейчас плевать.
Грудь сжимается от нового, более тяжёлого комка эмоций. Мысли снова возвращаются к маме, и от этой реальности не сбежать.
Шесть месяцев… Я не могу поверить, что могу её потерять.
Когда отец погиб, страх вернулся с новой силой. Мы боялись, что горе спровоцирует рецидив. Тогда всё обошлось. Но, как оказалось, ремиссия не может длиться вечно. И слава богу, что тогда всё обошлось… Я намеренно скрыл правду о смерти отца. Всем сказал, что это была авария. Только Савин знает, что его машину расстреляли. Только он знал, и именно он потом долгие месяцы шантажировал меня, вынуждая подпускать его всё ближе к маме. У неё до сих пор нет понятия, в какие грязные дела был впутан отец, и уж тем более – в какие втянут я. Как бы мне ни хотелось держаться подальше, приходится закрывать глаза на многое. Приходится лгать, скрывать правду, делать вид, что всё в порядке. Но выбора у меня нет. Как не было выбора после смерти отца.
К ресторану подъезжаю быстро, но дорога всё равно кажется бесконечной. Я словно плыву в густом тумане, в котором всё – звуки, обрывки мыслей, звуки проезжающих машин – сливается в одно сплошное гудение.
Садясь за руль, я попытался выбросить из головы все эмоции. Безуспешно.
Выключаю двигатель, выдыхаю, стискивая челюсти так сильно, что ноют зубы. Выхожу из машины.
Катя ждёт у входа – руки скрещены на груди, брови сведены. Недовольство в каждом изгибе её фигуры, в сжатых губах, в лёгком постукивании каблука о тротуарную плитку.
– Ты опоздал, – встречает она меня обвиняющим взглядом.
Я медленно поднимаю бровь.
– Серьёзно? Опоздал на три минуты?
Она закатывает глаза, тяжело вздыхая, словно я ребёнок, который упрямится.
– Ты собирался отменить встречу! – с досадой бросает Катя. – Ты хоть понимаешь, сколько я потратила времени на организацию?
Раздражение нарастает.
– Да, знаю, – выдыхаю, подавляя желание закатить глаза в ответ. – Именно поэтому я здесь.
Она прищуривается, взгляд колкий, оценивающий.
– С тобой последнее время невозможно работать, – выплёвывает она. – Ты… ты ведёшь себя так, словно тебе на всё плевать!
Я резко останавливаюсь перед ней, заставляя её отступить на шаг. Черт! После той ночи, той гребаной ошибки, которую я по трезвяни никогда бы не совершил, она почти постоянно меня бесит. Не знаю, сколько ещё выдержу. И как это всё объяснить Шелесту? Он вряд ли поймёт. Это ещё больше раздражает.
– Не говори мне сейчас про работу, Катя. Просто не надо.
Она дёргает подбородком вверх, и во взгляде мелькает непонимание, замешанное на едва заметной тревоге.
– Что с тобой?
В груди поднимается злость – тяжёлая, глухая, как набат. Ну почему нельзя меня сейчас оставить в покое? Почему она просто не может промолчать?
– Ничего, – сухо отрезаю, сжимая кулаки.
Я не хочу сейчас обсуждать это с ней. Не хочу видеть её упрямый, детский взгляд, не хочу слышать её недовольный голос, когда внутри меня разрастается паника.
– Ты ведёшь себя, как ребёнок, – бросаю через плечо, заходя в ресторан.
Катя остаётся стоять на месте, но я чувствую, как её взгляд сверлит мне спину.
Я прохожу внутрь, где меня уже ждут. За столом веду себя собранно. Или, по крайней мере, стараюсь.
Деловые встречи в ресторанах меня бесят. Ненавижу показушность, ненавижу это дежурное гостеприимство официантов, ненавижу, когда обсуждение серьёзных вопросов происходит под звон бокалов и фоновую музыку. Для этого существуют офисы.
Но иногда приходится выходить за свои рамки.
Заказан обед. Официант бесшумно ставит перед нами тарелки, но я почти не замечаю этого. Пока ждём, обсуждаются цифры, подписываются бумаги – всё идёт по привычному сценарию. Улыбки, уверенные реплики, деловые рукопожатия. Я киваю в нужных местах, делаю пометки в документах, но в голове гудит, мысли разбегаются, и я едва сдерживаюсь, чтобы не сорваться и не сказать клиенту что-то резкое. Напряжение давит, как тиски, и с каждым мгновением становится только хуже.
Катя сидит напротив, периодически бросая на меня укоризненные взгляды. Её тёмные глаза сверкают раздражением, губы поджаты. Она пытается поймать мой взгляд, но я намеренно смотрю мимо. Игнорирую её, игнорирую всё.
Когда встреча наконец заканчивается, мне становится легче. Короткие прощания, вежливые кивки, и вот клиенты уже выходят, растворяясь в полумраке ресторана. Остались только я и Жека Шелест.
Он не торопится уходить. Откидывается на спинку стула, лениво покачивая стакан с виски в руке, изучающе смотрит на меня. Его взгляд цепкий, проницательный. Он слишком хорошо меня знает, чтобы не заметить, что что-то не так.
– Ну, выкладывай, – наконец говорит он, пробежав пальцем по краю стакана. – Чего у тебя с лицом, будто мир рухнул?
Я провожу ладонью по лицу, с усилием разминая напряжённые мышцы, и устало откидываюсь на спинку стула. Горло пересохло, а внутри всё будто сжалось в тугой узел.
О проекте
О подписке
Другие проекты