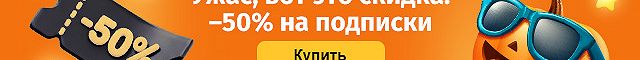
Глава 2,
из которой становится ясно, отчего судьба порой закладывает крутые виражи
Дом Елены Мелиссины стоял в регеоне[15] Арториан, напротив церкви Святого Сампсона. Это был типично римский особняк, спрятанный за кипарисами старого парка. Парк огорожен был высокими коваными решётками, а от ворот к дому тянулась аллея. Она уходила в недалёкую перспективу – к колоннаде парадного входа.
Пожилой, но всё ещё крепкий Игнатий Фока, верный слуга и давний спутник Елены, шаркал метёлкой по каменным плитам аллеи. Завидя Сухова, он заулыбался и поклонился патрикию. Сам Игнатий, хоть и носил звучную фамилию, но громких титулов не нахватал.
– Встала Алёна? – спросил Олег мимоходом.
– Только с заутрени вернулась. Отдыхать изволит. Поднявшись по истертым ступеням лестницы, кою стерегли два каменных льва, патрикий отворил дверь, часто обитую бронзовыми полосами, и вошёл в «прихожку» – просторный вестибул с полукругом колонн из белоснежного мрамора, с расписными потолками и стенами, покрытыми фресками.
Этот особняк стал Олегу родным домом – здесь жила его любимая женщина, его жена, его Алёнка. Поначалу Сухов всё переживал, его угнетало положение незнатного и бедного воина при богатой зоста-патрикии – он сам себе казался жиголо. Но постепенно различия между супругами сгладились, а ныне Олег сравнялся с Еленой в ранге. Да и золотишка в сундуке скопилось изрядно…
Сбросив сагий, Сухов быстро разулся и босиком прошлёпал по нагретому полу – старина Игнатий с утречка растопил подвальную печь. Горячий воздух гулял по глиняным трубам-лежакам, грея мозаичный пол, и поднимался по трубам-стоякам, наполняя теплом бельэтаж.
Потирая руки, Олег подошёл к окну, разделённому тонкой колонкой. Свинцовые рамы, заделанные кругляшами мутного зеленоватого стекла, были плотно заперты. Сухов подумал, что понятие «посмотреть в окно» тут непригодно – не видно ни черта. Ну хоть не дует, и то хлеб…
– Ага, ты дома! – послышался весёлый голос.
Патрикий поднял голову и улыбнулся – на верхней галерее, куда вела мраморная лестница, показалась Елена. Женщина вышла в одном месофоре – нижней тунике из тончайшего льна, и все прелести её великолепного тела были явлены глазам Олеговым, жадным и ненасытным.
Олег не однажды пытался описать свою возлюбленную и всякий раз бросал это дело, отчаявшись сыскать нужные слова.
Длинные ноги. Лебединая шея. Царственные плечи. Высокая грудь. Осиная талия. Крутые бёдра. Вот и всё описание! Слова-кубики, которые хоть так складывай, хоть эдак, всё равно выходит одно и то же – затёртый стандарт. Пошловатое клише.
Каким пером нужно владеть, дабы передать касание Алёнкиных волос, этой иссиня-чёрной гривы, что тяжёлым потоком ниспадает на плечи?
Когда он смотрит в огромные глаза Елены, в жгучие чёрные очи, у него кружится голова, он чувствует, что падает в тёмную бездну, – и где ему найти для этого глаголы и прилагательные? Он бегло говорит на латыни и по-эллински, но и эта древняя, полуугасшая речь не подсказывала ответов.
Киклотомерион – круглобёдрая, анедомаста – дерзкогрудая, карбонопис – углеокая… Звучит красиво, но даже язык Гомера не способен был облечь в слова красоту женщины, которой он не устал любоваться, которую не устал любить.
…Напевая что-то, Елена ступала на цыпочках, кончиками пальцев касаясь перил. Она преувеличенно покачивала бёдрами, прогибала спину и расправляла плечи, отчего тонкая ткань облепляла прекрасную грудь или западала меж ровных ног.
Олег взлетел по лестнице и схватил женщину, облапил ее, вскинул на руки и понёс в спальню…
…Двадцать минут спустя они лежали рядом, опустошённые и довольные. Унимая бурное дыхание, Сухов привлёк к себе Алёну, покорную, особенно мягкую и ласковую. Она положила свою голову ему на плечо, а он гладил её бедро, сводя ладонь в западину талии и снова возвращаясь на чудесную выпуклость. Женщина всё теснее прижималась к нему, нежась и подлащиваясь, и Олега вдруг резануло жалостью – он догадался, зачем Елена ходила в церковь. Наверное, снова, в который раз, молила Бога о ниспослании благодати, о счастье, по сравнению с которым богатство – прах, а родовитость – звук пустой.
Алёна никак не могла забеременеть и всё каялась, всё корила себя и печалилась, убеждённая в том, что бездетность – это наказание Божье за грехи её.
Мучением было видеть заплаканные глаза любимой. Олег успокаивал Алёну, убеждал по-всякому, что, если уж и возлагать вину, то на него. На что жена кротко улыбалась и отвечала, что ни разу в жизни не усомнилась в мужской силе варвара, коего полюбила…
– Не переживай, слышишь? – прошептал Сухов.
– Я не переживаю… – тонким голосом ответила Елена.
Она томно перевернулась на спину и потянулась, то ли в самом деле переставая горевать, то ли притворяясь успокоенной. Олегова пятерня, словно сама по себе, погладила плоский животик, надавила на лобок и вернулась к тугой груди, стала обминать её пальцами, теребить сосок, нежно касаясь тёплой и шелковистой кожи. Женские ресницы затрепетали, веки опустились, а припухшие губки дрогнули в улыбке. «„Снежок в розе…“ – подумал Сухов. – Чьи это слова? Не мои…»
– Иногда я думаю, – доверчиво проговорила Мелиссина, – что нарочно соблазняю моего милого варанга, лишь бы зачать… А потом, когда отдаюсь тебе, понимаю, что просто хотела стать твоей, ибо я женщина…
– Ты слишком много думаешь, – сказал Олег назидательно, – и почти всегда – неправильно. Ты постоянно обижаешь Елену Мелиссину, а она очень хорошая… и очень хорошенькая.
– Я больше не буду…
– Алёнка ты, моя Алёнка…
– Алёнушка, – поправила его Мелиссина. – Алёночка.
– Любимая…
– Любименькая!
К Мелиссине вернулась обычная живость. Она села на постели и перекинула на грудь копну своих волос. Перебирая пряди, Елена сказала:
– Я сегодня видела Пончика, он проходил мимо с этим пачанакитом[16]… с Котяном, и просил тебе передать, что они обязательно явятся к Фаросу.[17]
В Олеге что-то сжалось внутри – он совершенно забыл о заговорщиках.
– Я в них и не сомневался, – бодро сказал Сухов.
– Ты опять что-то от меня скрываешь? – Соболиные брови Елены сердито нахмурились.
– Пустяки, – успокоил ее Олег. – Так, небольшая услуга базилевсу…
Женщина изящно прогнулась, скрючила пальцы, будто кошка, выпускающая коготки, и хищно потянулась к Сухову. Патрикий порывисто обнял её, опрокинул на кровать. Алёна взвизгнула – и тут же забросила ему руки за шею, царапаясь легонько и раздвигая ноги.
– Солнышко моё лучистое… Я опять тебя хочу… Представляешь?.. – сорвалось с сухих губ.
– Представляю, – ответил варвар.
Задолго до означенного времени Олег покинул родовое гнездо Мелиссинов, одетый по последней моде – в штаны из дорогой шерсти, в тонкий шёлковый хитон и голубой скарамангий, затянутый златотканым кушаком. Ноги были обуты в мягкие кампагии[18] с загнутыми носками, а плечи Сухов укрыл чёрным сагием, расшитым золотыми грифонами.
Лицо его выражало скуку, а от всей фигуры исходила опасная сила и лёгкая надменность – они словно гнали по толпе прохожих волну почтения и робости. Олег уже привык к этой незримой ауре, отдаляющей людей и берегущей его от малых зол.
Обычного спафиона он с собой не взял, прихватил варварский скрамасакс, полунож-полумеч длиною в локоть.[19]
По давней привычке патрикий не думал о предстоящем деле, дабы не перегружать голову и душу опасениями. Проходя под древними арками, минуя роскошные особняки, Сухов просто смотрел по сторонам – подмигивал хорошеньким девушкам, кутавшимся в накидки-мафории и оттого походившими на мадонн, смиренно опускал взгляд перед важными священниками, холодно глядел в нагловатые глаза заезжих венецианцев, развязных и громкоголосых.
Весь этот район, заселенный богатеями и знатью, народ прозывал Константинианой. Вероятно, потому, что тянулся он к западу до старой городской стены, сложенной Константином Великим. Да тут повсюду, куда ни глянь, глаз натыкался на посвящения равноапостольному императору-солнцепоклоннику. Вот и улица достигла крайнего перекрёстка, вливаясь в форум Константина – просторную круглую площадь, мощённую мраморными плитами.
Прямо посередине форума высилась гигантская колонна из порфира, окаймлённая бронзовыми венками. На пятьдесят локтей поднимал сей столп позолоченное изваяние императора, представленного в виде солнечного божества Аполлона. Дабы освятить языческий образ, в статую вплавили гвоздь от Креста Господня, а в основание колонны замуровали и топорище от секиры Ноя, и кресало Моисея, и огрызки хлебов Иисусовых, и «Палладиум» – деревянную статуэтку Афины Паллады, которую ещё Эней стяжал в Илионе, а римляне считали залогом своей непобедимости. Видать, зодчие-столпотворители действовали по принципу «кашу маслом не испортишь».
Столп со статуей обрамляла двухэтажная колоннада с парой монументальных арок из белоснежного мрамора, к которой притулилась часовня Святого Константина. По левую руку от Олега на площадь выступало здание Сената с портиком из четырёх великих колонн, перед коим возвышались громадные статуи Афины и Тетис. Напротив Сената, с южного края форума, громоздился помпезный Нимфей – с куполом на гранёных столбиках, с маленькими бассейнами по окружности, с плещущими фонтанами и вечно мокрыми статуями, с искусно сложенными гротами, из которых водопадиками сбегали ручейки.
Олег усмехнулся, наблюдая весь этот блеск напоказ: с утра пораньше он побывал с изнанки «Города-Царя» и видел совершенно иное – чудовищную нищету и разруху в головах, грязь, мерзость, низость… Раззолоченная парча прикрывала гниющие язвы.
«Не грузись!» – посоветовал себе Сухов, пересекая форум.
Обычно народ толпился под сенью арок у «Колонны Гвоздя» или прохлаждался возле Нимфея, стремясь попадать в облако сеющейся водяной пыли, но это будет позже, а пока что горожане избегали тени, греясь на весеннем солнышке. Народ бродил толпами, многажды пересекаясь и гомоня на всех языках Ойкумены, топая пешком или качаясь в носилках, ведя в поводу ослика с поклажей или сгибая собственную спину под тяжестью ноши. Смуглые арабы и светлокожие русы, бурно жестикулирующие италийцы и смирные иудеи, хитроумные армяне и простодушные норманны, болгары в факиолах, похожих на тюрбаны, и мадьяры с гладко остриженными головами, украшенными тремя косами, – ото всех народов, ближних и дальних, сбрелись сюда ходоки.
Олег свернул налево, шагая по Месе – главному проспекту Города. Широкая – в сорок шагов – и помпезная, с тротуарами под тенью Царских портиков, Меса словно раздвигала холмы города, выстраивая по ранжиру богатые дома и храмы и выводя путников к главной площади Августеон. По левую руку от державной улицы тянулись гигантские аркады водопровода Валента. Акведук устремлялся туда же, куда и Месса, – к Палатию, к этому средоточию власти и величия, к пупу великолепной Imperium Christianum.
– Олег! – неожиданно окликнули патрикия.
Сухов узнал голос и улыбнулся заранее, оборачиваясь к подбегавшему грузной трусцой Шурику Пончеву, румяному и упитанному другу, товарищу и брату. Протоспафарий Александр щеголял в желтых башмаках и красно-зеленых одеждах, положенных ему по рангу, и побрякивал на бегу золотой нагрудной цепью.
– Пр-р-ры-вет, сиятельный! – пропыхтел он. Так «рыкать» и «ыкать» мог только Понч, это была его устная «визитка».
– Здорово, светлейший. Что-то ты, дружок, растолстел.
– Да ничего подобного! – возмутился Пончик.
– Ладно, ладно! Отъелся на ромейских харчах – не видно, что ли?
Как бы ниоткуда возник бек[20] Котян, смуглый печенег с чеканным лицом, на которое так и просилась боевая раскраска, с непроницаемыми обсидиановыми глазами и длинными прямыми волосами, отливавшими синевой. Одет он был в скарамангий цвета персика и чёрную хламиду, скреплённую на плече здоровенной золотой запоной, но куда больше, подумал Олег, ему бы подошла куртка из оленьей кожи с бахромой по швам и шаровары кочевника.
– Свидетельствоват! – ухмыльнулся Котян, поднимая руку. – Третья складка на пузе появилась – сам видат в термах.
Пончик уныло пощупал пухлый бок и вздохнул:
– Всё, сажусь на диету… Угу…
– Лучше сажат на коня! – уверенно посоветовал печенег.
С недавних пор Котян, знавший лошадей, был пристроен Олегом конюшим к юному патриарху Феофилакту, а уж тот просто обожал скакунов. В патриарших конюшнях содержали две тысячи отборнейших коней, и Феофилакт, младший сын Романа I Лакапина, из своих рук кормил их ячменём, изюмом и сухофруктами. Бывало, что горе-патриарх впопыхах завершал литургию и бежал к стойлу любимой кобылы, собравшейся рожать… Зато у базилевса имелся свой церковный иерарх, ручной и послушный императорской воле. И почему бы Сухову не порадеть за своего человечка?..
– Слушай, друг степей, – прищурился Олег, – мы тут уж тринадцать зим и лет паримся. Хочешь, чтобы я поверил, будто ты до сих пор не растерял свой варварский акцент?
Печенег осклабился.
– Надо же понимат! – сказал он с гортанным печенежским призвуком. – Его Святейшество испытывает тихое торжество, имея в услужении свирепого кочевника, он трепещет от сладкого ужаса. Зачем же мне его разочаровывать? Или признаваться, что я в пятый раз перечитываю Плутарха? Что знаю наизусть из Григория Назианзина? Пусть уж лучше трепещет…
– «Кто я? Отколе пришёл? Куда направляюсь? Не знаю…» – продекламировал Шурик с выражением.
– «И не найти никого, кто бы наставил меня», – дочитал печенег.
– Миллиард тыщ раз читал, – признался Пончик, – а всё равно… Угу…
– Опять книжные развалы посещали? – понятливо улыбнулся Сухов.
– А зачем ты нас к Фаросу звал? – перевел разговор на другую тему протоспафарий.
– Да так, – пожал плечами Олег, – заговор надо бы раскрыть.
– Ух ты! – сказал Пончик испуганно. – Против базилевса?!
– Тише, ты! А против кого ж ещё…
Печенег лишь осклабился в доволе – в его сердце любовь к эллинским премудростям уживалась со страстью к баталиям.
– Пошевеливайся, светлейший!
Все трое прибавили шагу. За пышным форумом Августеон вставала высокая стена, ограждающая Большой императорский дворец. Она была сложена из кирпича и прослоена полосами светлого мрамора. На площадь выступали Медные ворота с огромным образом Христа, а за ними открывался полукруглый двор, окружённый массивной, но на удивление ажурной бронзовой решёткой.
Дворцовые стражники, повинуясь жесту патрикия, отперли створку врат и пропустили всю компанию, склоняя головы в привете, из-за чего пышные султаны на их шлемах качнулись опахалами.
– Время у нас ещё есть, – сказал Олег, вытягивая руку с солярием – карманным циферблатом древней работы – и сверяясь с дневным светилом. – Но лучше обождать, чем опоздать! Вперёд.
Полукружие двора сходилось к парадному вестибюлю Халке – огромной ротонде под куполом, тускло отливавшим золотой черепицей. Посреди зала выделялась рота – плита из порфира, с которой, бывало, базилевс обращался к народу. От роты кругами расходился узор на полу, выложенный из желтого и фиолетового мрамора.
Торопливо минуя Халку, троица вышла за внутренние бронзовые ворота, попадая в портик Схолариев и сворачивая к Буколеону, к южной оконечности гигантского собрания дворцов. Неподалёку располагался тронный Золотой зал, но Сухова куда больше впечатлял вид на зелёный склон холма, сбегавший к древним крепостным стенам у самого берега, и блистающий простор Мраморного моря. Было не жарко, и горизонт не затенялся дымкой марева – синяя даль чётко разделялась на ясную лазурь неба и чистую синеву моря. Дворцовую гавань покидал чёрный дромон,[21] попутный ветер надувал его красные паруса, но и гребцы не знали отдыха – два ряда весел мерно поднимались из воды, рассыпая сверкающую капель, и снова погружались в прозрачные волны.
Сухов с удовольствием вобрал полную грудь свежего воздуха и медленно, с оттяжечкой, выдохнул, будто исторгая из себя пыль императорских покоев, вонь кадильниц и чад смоляных факелов.
О проекте
О подписке
Другие проекты