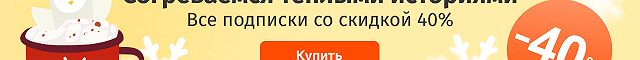
Четвертый трактат.
Περὶ εὐδαιμονίας.
Эйдос блаженства: онтология счастья у Плотина.
Четвертый трактат Плотина «О блаженстве» (Περὶ εὐδαιμονίας) представляет собой не просто этическое рассуждение, но метафизическое исследование условий возможности счастья как такового. Его внутренняя логика развертывается как последовательное восхождение от наивно-антропоморфных определений к онтологическому ядру, где счастье перестает быть психологическим состоянием и становится модусом бытия. Современный человек, погруженный в культуру успеха и гедонистического расчета, обнаруживает здесь радикальный вызов: счастье не только не зависит от внешних обстоятельств, но и не требует даже непрерывности сознания – оно оказывается тождеством с вечнодействующей основой собственного «я».
От «живого существа» к «жизни как таковой»: Плотин начинает с апории: если счастье есть «благая жизнь» (εὖ ζῆν), а жизнь присуща всем живым существам, то почему бы не признать счастливыми животных и растения? Этот кажущийся провокационным вопрос служит методологическим приемом для выявления скрытых предпосылок. Оппоненты интуитивно ограничивают круг счастливых, ссылаясь на отсутствие разума или чувств, но их аргументы рушатся при логическом анализе. Если благо – в соответствии с природой (κατὰ φύσιν), то существо, реализующее свою природу, уже блаженствует, даже не осознавая этого. Если же благо – в осознании, то оно сводится к простой рефлексии, что делает его вторичным и случайным. Так выявляется первый водораздел: счастье либо имманентно жизни как ее совершенство, либо является эпифеноменом сознания.
Иерархия жизней и эйдолоны блага: Плотин разрешает апорию через учение об омонимии жизни. «Жизнь» говорится во многих смыслах: жизнь растения – смутный образ (εἴδωλον) жизни чувствующей, та – образ жизни разумной. Соответственно, и «благо» каждой ступени есть лишь образ высшего блага. Но тогда подлинное счастье должно принадлежать не любой жизни, а той, которая является жизнью par excellence – совершенной, не нуждающейся ни в каких добавлениях (τελεία ζωή). Эта жизнь не может быть привходящим качеством; она есть сама сущность. Так фокус смещается с эмпирических носителей жизни на ее трансцендентный источник: совершенная жизнь – это жизнь Ума (νοῦς), вечно актуальная, самотождественная, блаженная.
Человек как пограничное существо: Здесь возникает ключевой для антропологии Плотина момент. Человек существует в двойном модусе: он может отождествлять себя с составным существом, включающим тело и низшие душевные функции, или же – с высшим, умным «я». В первом случае его блаженство проблематично, ибо подвержено ударам судьбы, болезням, потере сознания. Во втором – оно неуязвимо, ибо это блаженство самого Ума, который есть наша глубочайшая сущность. Мудрец (σπουδαῖος) – это тот, кто совершил метанойю, «переместился» (μεταβέβηκε) в это тождество. Его счастье – не моральная награда, а онтологический факт: он есть то, что есть благо.
Преодоление стоического парадокса: Плотин тонко полемизирует со стоиками, для которых счастье – в «жизни согласно добродетели», но все же предполагает отсутствие страданий. Он показывает, что это компромисс, рождающий полу-счастье. Если страдание может повлиять на блаженство, то оно уже не абсолютно. Его решение радикально: страдает тело или низшая душа, но не умное «я». Даже в пытке быка Фаларида один элемент страдает, другой – созерцает благо. Это не жестокость, а строгое различение онтологических уровней. Добродетель здесь – не терпение, а свидетельство иной природы.
Счастье без сознания: апогей интериорности: Самый поразительный ход Плотина – утверждение, что мудрец может быть счастлив, даже находясь в беспамятстве. Сознание (παρακολουθεῖν) – это лишь «зеркало», отражающее деятельность ума, но не сама деятельность. Когда зеркало разбито (болезнь, опьянение), ум продолжает свою вечную работу. Счастье, таким образом, не требует саморефлексии; оно есть не переживание, а бытие в акте. Это разрыв с общепринятым пониманием счастья как субъективного благополучия. У Плотина счастлив не «человек» как эмпирический индивид, а тот вечный субъект, который в нем присутствует.
Практический императив: жизнь как уподобление Уму: Итог трактата – не созерцательная отрешенность, но конкретный жизненный проект. Мудрец использует тело и внешние блага как лиру – инструмент, которым можно пользоваться, а можно отложить. Он не ненавидит мир, но видит его относительность. Его действия делятся на те, что направлены к счастью (созерцание), и те, что обусловлены заботой о «присоединенном». Он может править городами или бедствовать, но это не касается его сущности. Конечная цель – «петь без инструментов», т.е. осуществить чистую деятельность Ума, свободную от всякой привязанности к материальному.
Современное звучание: В эпоху кризиса внешних идентичностей и поиска устойчивой основы самости плотиновский анализ обретает новую актуальность. Он предлагает не психотехники позитивного мышления, а онтологическую терапию: наше подлинное «я» уже сейчас пребывает в состоянии самодостаточного блаженства, и задача – осознать эту данность, отождествиться с ней. Это вызов культуре, которая счастье маркетизирует, делает его зависимым от достижений, статуса, здоровья. Плотин напоминает: счастье не приобретается – оно узнается как всегда уже присутствующее основание нашего бытия. В этом – его освобождающая и одновременно требовательная сила: освобождающая, ибо делает нас неуязвимыми перед лицом фортуны; требовательная, ибо призывает к радикальному преобразованию всего жизненного строя.
Таким образом, трактат Плотина – это манифест абсолютного имманентизма, который оборачивается радикальным трансцендентизмом: блаженство имманентно нашей глубочайшей сущности, но чтобы актуализировать его, необходимо трансцендировать все эмпирические определения человека. Счастье оказывается не аффектом, а онтологической позицией – бытием в истине о себе.
1. О границах счастья: может ли блаженство быть уделом всех живых существ?
В рассуждении о природе истинного благоденствия, обозначенного как εὖ ζῆν (благая жизнь) и εὐδαιμονία (счастье), возникает фундаментальный вопрос о круге его причастников. Если мы полагаем, что суть благой жизни заключается в беспрепятственном осуществлении собственной природы, то какое основание имеется для того, чтобы исключать из числа счастливых прочие живые существа? Ибо если животное реализует то, к чему оно предназначено от природы, не встречая препятствий, и если его существование протекает в соответствии с его естественной функцией (ἔργον οἰκεῖον), достигая в ней завершенности, то по каким критериям можно отрицать у него наличие εὐζωία (благой жизни)? Логика здесь последовательна: если счастье отождествлять с переживанием удовольствия (εὐπάθεια), то многие существа, например, поющие птицы, явно испытывают его, следуя своим природным склонностям. Если же определять счастье как достижение конечной цели (τέλος) природного стремления (ὄρεξις), то и в этом случае животные, достигающие этой цели, завершая полный цикл жизни, задуманный их природой от начала и до конца, формально удовлетворяют условию.
Однако подобный вывод вызывает интуитивное сопротивление: неужели понятие счастья, столь возвышенное, можно распространить на всех без исключения животных, включая самых низших, а по той же логике – и на растения, которые также обладают жизнью, развертывающейся к своему концу? Возражение против такого расширения часто основано не на строгом аргументе, а на скрытой предпосылке о малой ценности такой жизни. Но разве право на благую жизнь должно определяться внешней, субъективной оценкой её достоинства? Более строгим критерием различия могло бы стать наличие чувственного восприятия (αἴσθησις), которое отсутствует у растений, но присуще животным. Тем не менее, если признать, что сама жизнь (ζωή) допускает градации – будучи либо благой, либо дурной, – то и в жизни растений можно усмотреть аналог благого состояния: растение может преуспевать или чахнуть, приносить плоды или нет.
Таким образом, внутренняя дилемма трактата раскрывается с полной ясностью: определение счастья диктует его универсальность, тогда как человеческая интуиция стремится к его исключительности. Если суть счастья – в удовольствии, или в невозмутимости (ἀταραξία), или просто в жизни согласно природе (κατὰ φύσιν ζῆν), то, следуя строгой дефиниции, нельзя последовательно отрицать его у других живых существ. Проблема, таким образом, смещается с вопроса «кому принадлежит счастье?» на более глубокий: «что есть само счастье?». Современное звучание этого рассуждения заключается в критике антропоцентризма и в постановке вопроса о границах морального сообщества. Логика Плотина заставляет задуматься: не является ли наше нежелание признать возможность счастья у иных существ следствием не строгого философского анализа, а предвзятой иерархизации ценности жизней, что, в свою очередь, требует либо пересмотра определения счастья, либо радикального расширения сферы этической ответственности.
2. О природе восприятия и высшем благе: от чувства к логосу.
Если, возражая против распространения счастья на растения, в качестве решающего критерия выдвигается отсутствие у них чувственного восприятия (αἴσθησις), то возникает риск лишить блаженства и многих животных. Ключевой вопрос заключается в том, какую именно роль играет восприятие в обретении блага. Если под восприятием понимать просто осознание испытываемого состояния (πάθος), то возникает дилемма: должно ли само по себе это состояние быть благом, прежде чем оно будет осознано? Например, пребывание в согласии с природой (κατὰ φύσιν ἔχειν) является благом, даже если оно не осознано; точно так же действие, соответствующее природе существа (οἰκεῖον), остается таковым, даже если сам субъект ещё не знает, что оно соответствует его природе и приятно. Следовательно, если благо уже присутствует как таковое в самом состоянии или расположении, то обладающее им существо уже пребывает в благе (ἐν τῶι εὖ). Зачем же тогда требуется дополнительное условие в виде восприятия? Получается, что сторонники этой позиции переносят источник блага не на само переживаемое состояние, а на знание (γνῶσις) или восприятие этого состояния. Но тогда они должны признать, что само восприятие и есть благо, как актуализация чувственной жизни (ἐνέργεια ζωῆς αἰσθητικῆς). А это ведет к абсурдному выводу: любое восприятие, каким бы оно ни было, станет благом.
Если же благо состоит из двух элементов – и состояния, и восприятия этого состояния, – то как нечто, составленное из двух, самих по себе безразличных (ἀδιάφορον) компонентов, может быть благом? Допустим, состояние (πάθος) само по себе благо, и благая жизнь (τὸ εὖ ζῆн) наступает тогда, когда человек осознает присутствие этого блага. Но что именно он должен осознать? Только факт наличия приятного ощущения или также и то, что это ощущение и есть само благо (τὸ ἀγαθόν)? Если требуется понимание, что это именно благо, то задача уже выходит за пределы простого чувственного восприятия. Это требует иной, более высокой способности (μείζων δύναμις), нежели αἴσθησις. Следовательно, благая жизнь доступна не просто испытывающему удовольствие, а тому, кто способен познать (γινώσκειν), что удовольствие есть благо. Причина благой жизни будет заключаться уже не в удовольствии, а в способности суждения (τὸ κρίνειν), постигающей ценность удовольствия.
Это приводит к решающему онтологическому различению. Способность суждения принадлежит к высшему порядку, чем простое переживание: это разум (λόγος) или ум (νοῦς). Удовольствие же есть переживание, состояние (πάθος). Нигде не может быть так, чтобы неразумное (ἄλογον) превосходило разумное. Как же тогда сам разум, отступив от собственной природы, станет полагать высшим благом нечто, относящееся к противоположному, низшему роду? Таким образом, все рассуждения, будь то тех, кто отказывает растениям в блаженстве, или тех, кто связывает его с определенным видом восприятия, содержат внутреннее противоречие. Они бессознательно ищут нечто большее в понятии «благая жизнь», интуитивно помещая «лучшее» в более ясную и выраженную форму жизни.
Те же, кто определяет блаженную жизнь как жизнь разумную (ἐν λογικῆι ζωῆι), а не просто жизнь чувствующую, возможно, движутся в верном направлении. Но почему они ограничивают счастье только разумным существом? Если причина в том, что разум (λόγος) более изобретателен (εὐμήχανον) и легче обнаруживает и обретает первичные природные блага, то тогда счастье будет доступно и неразумным существам, если те по природе обладают этими благами. В таком случае разум выступал бы лишь как полезный инструмент (ὑπουργός), а не как нечто ценное само по себе; и совершенство разума, которое мы называем добродетелью (ἀρετὴ), тоже не было бы самоцелью.
Если же утверждать, что ценность разума не в добывании природных благ, а в нём самом, в его самодостаточной притягательности, то необходимо точно определить его иную природу, его собственное действие (ἔργον) и то, что делает его совершенным (τέλειον). Его совершенство должно заключаться не в исследовании этих внешних благ, а в чём-то ином. Его природа должна быть иной, он должен принадлежать не к роду этих первичных природных вещей и даже не к тому, из чего они происходят, но быть выше всего этого. Иначе невозможно обосновать его высшую ценность (τὸ τίμιον).
Таким образом, позиция, связывающая счастье лишь с приобретением первичных благ, оказывается в тупике, пока её сторонники не откроют для себя иную, высшую природу, превосходящую ту, на которой они сейчас настаивают. Они остаются там, где желают оставаться, в недоумении относительно подлинного пути к благой жизни, довольствуясь тем, что им доступно. Этот анализ выводит рассуждение за рамки утилитарного понимания разума как инструмента и подготавливает почву для утверждения его трансцендентной, самодостаточной ценности, коренящейся в причастности к высшему, умопостигаемому началу.
3. О градации жизни и сущности блаженства: от эйдолона к совершенству.
Исходным положением является то, что счастье (τὸ εὐδαιμονεῖν) полагается в жизни (ἐν ζωῆι). Если бы понятие «жизнь» употреблялось однозначно (συνώνυμον), то все живые существа, как причастные жизни, были бы способны к счастью, а благой жизнью (εὖ ζῆν) в действительности жили бы те, у кого присутствует некое единое и тождественное благо, к восприятию которого, по природе, способны все живые существа. В таком случае нельзя было бы даровать эту возможность разумному существу (τῶι λογικῶι) и отказывать в ней неразумному (τῶι ἀλόγωι), ибо общим для них была бы именно жизнь, как основа, способная воспринять одно и то же благо для счастья. Отсюда проистекает и ошибка тех, кто утверждает, что счастье осуществляется в жизни разумной, поскольку они, по сути, не полагают счастье в общей жизни и даже не предполагают жизнь как таковую в качестве субстрата. Их вынуждают говорить о разумной способности (λογικὴ δύναμις) как о неком качестве (ποιότης), вокруг которого конституируется счастье. Однако их собственное подлежащее (ὑποκείμενον) – это разумная жизнь, и счастье складывается именно вокруг этого целого. Следовательно, оно относится к иному виду жизни (ἄλλο εἶδος ζωῆς), не как к чему-то противопоставленному разуму, но, как мы утверждали ранее, как к чему-то первичному, тогда как разум является вторичным.
Поскольку жизнь говорится во многих смыслах (πολλαχῶς λεγομένης) и имеет различие согласно степеням: первичным, вторичным и последующим, а также поскольку «жить» говорится омонимично – иначе о растении, иначе о неразумном существе, – причём различие заключается в степени явленности, ясности или смутности (τρανότητι καὶ ἀμυδρότητι), то, очевидно, по аналогии следует понимать и «благо» (τὸ εὖ). И если один род жизни есть лишь образ (εἴδωλον) другого, то и сопутствующее ему благо будет образом блага высшего. Однако если счастье принадлежит тому, у кого жизнь присутствует в высшей степени (ὅτωι ἄγαν ὑπάρχει τὸ ζῆν) – а это есть такая жизнь, которой ничто из присущего жизни не недостаёт, – то счастье будет принадлежать лишь тому, кто живёт в высшей мере. Ибо ему принадлежит и наилучшее, если только наилучшее среди сущих – это подлинно сущая жизнь, жизнь совершенная (ἡ τέλειος ζωή). Только в этом случае благо не будет чем-то привходящим извне (οὐδὲ ἐπακτὸν τὸ ἀγαθὸν), и не потребуется иного подлежащего, которое, будучи произведено откуда-то ещё, поставит его в состояние блага. Ибо что могло бы привнесться к совершенной жизни, чтобы сделать её наилучшей?
Если же кто-то станет говорить о природе блага как такового, такое рассуждение будет близко нашей мысли, однако мы ищем сейчас не причину (οὐ τὸ αἴτιον), а имманентное начало (τὸ ἐνυπάρχον). Что совершенная, истинная и подлинно сущая жизнь пребывает в той интеллектуальной природе (ἐν ἐκείνηι τῆι νοερᾶι φύσει), что все прочие жизни несовершенны, суть образы (ἰνδάλματα) жизни и не являются жизнью в чистом и полном смысле, а скорее в меру своего удаления от источника, – об этом было сказано многократно. И сейчас следует кратко повторить: поскольку всё живое происходит из единого начала (ἐκ μιᾶς ἀρχῆς), но прочее живёт не в равной степени, то необходимо, чтобы само это первое начало было жизнью первичной и в высшей степени совершенной. Таким образом, внутренняя логика рассуждения ведёт от признания омонимии жизни к иерархии её проявлений и, наконец, к утверждению, что подлинное счастье есть актуализация самой совершенной формы жизни, которая тождественна высшему Благу и не нуждается ни в каких внешних добавлениях для своего совершенства.
4. О человеке и совершенной жизни: тождество, ауттаркия и трансценденция блага.
Если человек способен обладать совершенной жизнью (τὴν τελείαν ζωὴν), то человек, обладающий такой жизнью, и есть счастливый. Если же нет, тогда счастье следовало бы отнести лишь к богам, если только у них пребывает жизнь такого рода. Однако, поскольку утверждается, что это счастье существует и среди людей, необходимо исследовать, каким образом это возможно. Человек, очевидно, обладает не только чувственной жизнью, но и способностью суждения (λογισμὸν), и подлинным умом (νοῦν ἀληθινόν). Но является ли он чем-то одним, а совершенная жизнь – чем-то другим, чем он лишь обладает? Или же вообще не существует человека, который не имел бы этого, по крайней мере потенциально (δυνάμει) или актуально (ἐνεργείαι), и именно такого мы и называем счастливым?
О проекте
О подписке
Другие проекты