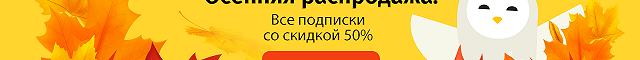
Морская свинка Мукки
Однажды, когда я был чуть выше подоконника, я пошел на базар. У базарных ворот стоял старик. На груди у него висел темный от времени, гладкий ящичек, полный белых билетиков, а сверху сидела трехцветная морская свинка.
– Люди! Люди! Узнайте свою судьбу! – хрипло и весело кричал старик. Он был уже горбатый от долгой жизни, и борода у него пестрела желтыми подпалинами.
Я остановился рядом. Был воскресный день, на базар пришел весь город, и люди часто подходили к старику узнать свое счастье. Каждый, кому морская свинка вытягивала билетик, тревожными пальцами разворачивал его, а прочитав, улыбался и отходил от старика довольный.
– Дедушка, а мне тоже можно узнать? – спросил я, когда народу стало поменьше.
– Уважаемый гражданин, вам не только можно, вам нужно сию же минуту узнать свою судьбу, – сказал старик. – Мукки, а ну-ка, Мукки, скажи молодому человеку, какие подвиги он совершит в своей жизни! – попросил он свинку и нежно погладил ее по трехцветной спине.
Морская свинка Мукки опустила острую мордочку в ящик и, понюхав билеты, вытащила мою судьбу.
– Читай! – сказал старик, протягивая мне белый листок.
– Дедушка, я не умею читать.
– Хорошо, – сказал старики, достав из отделения ящика очки в железной оправе, стал читать: – Долгую, как дорога от звезды до земли, и чистую, как весеннее небо, суждено прожить тебе жизнь. Ты всегда будешь побеждать. Ты станешь дипломатом. Все.
– Большое спасибо, дедушка! – сказал я и подал деньги.
– За этот билет не беру! – ответил он и вложил мне в руку монету.
Я отошел, потому что уже собралось много желающих узнать свое счастье. Купил стакан семечек, за которым пришел на базар, и стал думать. В моей судьбе все было понятно. Я буду жить очень долго и никогда не умру – это я знал и без морской свинки. Я буду всегда побеждать – это я тоже знал, потому что не было в нашем дворе ровесника, которому я бы поддался в драке. Но что такое быть дипломатом – этого я не знал и поэтому не мог уйти домой, не выяснив самого главного. До вечера я ходил по базарным рядам, не упуская старика из виду. А когда он посадил свою свинку в ящик и пошел домой, я побежал за ним следом.
– Дедушка, а что такое дипломат?
– О, это ты! Ты еще не пошел домой?
– Да, я еще не ушел домой, скажите, кто такой дипломат?
– Я вижу, ты будешь добрым человеком. Вот мой дом, зайди, и я расскажу тебе все. Это нужно рассказать как следует.
Старик отпер висячий замок на двери своего маленького дома. Комната была тусклая, длинная, с низким потолком.
– Садись, а я дам еды своей кормилице.
Я сел на рассохшийся табурет и свесил босые ноги.
Старик поставил ящичек на стол, вынул свинку и опустил ее на пол. Свинка быстро побежала в свой угол. Старик достал пучок моркови и прямо из рук кормил свою свинку и приговаривал:
– Умница, Мукки, умница, много счастья ты нагадала сегодня людям. Так и надо, только счастье, одно лишь счастье должны мы с тобой предсказывать людям. Потому что у каждого человека и без нас хватает маленького и большого горя.
Я сидел и слушал. Потом старик зажег примус, разогрел обед, и мы сели кушать.
– Так вот, значит, – начал старик, дуя сухими губами в ложку горячих щей. – Этот билет, который достался тебе, единственный во всем моем ящичке. И для меня самый дорогой билет. Шестьдесят лет назад был я таким, как ты, и вытащил точно такой билет. Там тоже было написано, что я буду дипломатом. Но, как видишь, я не стал дипломатом, потому что я не знал, что это такое. А объяснить мне никто не мог, потому что я жил в рабочей слободке и служил мальчиком в столярной мастерской. Я был не такой догадливый, как ты, и поэтому забыл спросить у гадальщика, что такое дипломат. А когда я постарел и узнал, что значит быть дипломатом, было уже слишком поздно. Тогда я купил себе морскую свинку и стал гадать людям счастье. А дипломат – очень большой человек. Дипломаты живут за границей и красиво говорят, понял?
– Понял, – сказал я, – очень понял!
– Вот хорошо. Ты должен стать дипломатом, потому что ты теперь знаешь, что это такое, – улыбнулся старик.
Когда мы кончили обед, он позволил мне поиграть с морской свинкой Мукки. А когда я уходил домой, старик, как мужчине, крепко пожал мне руку и сказал, что он на меня надеется.
На другой неделе наша семья уехала из города, и я никогда больше не видел этого чудного старика.
Давным-давно растаяли в солнечных лучах те времена, когда я был чуть выше подоконника. Должен сказать, что я так и не стал дипломатом. Но в те дни, когда дела мои идут особенно плохо, я вспоминаю тебя, мой мудрый гадатель. Знаешь, наверно, придет время, когда я тоже повешу через плечо деревянный ящик с морской свинкой и пойду по земле гадать людям счастье.
1960
Дикарь
У нее было красивое имя Элеонора и купеческая фамилия Булочникова.
Меня исключили тогда из очередной школы. И добрая моя бабушка определила внука в новую школу. Там я и увидел Нору.
До этого времени я обучался в мужских школах, а тут было смешанное обучение, и я растерялся. Но вскоре все вошло в колею. Освоившись, я стал таскать девчонок за косы, пускать бумажных голубей, подставлять ножки, ловить осенних мух и запрягать их в проволочные колесницы. Нору я увидел не сразу, а лишь где-то через неделю. Мы столкнулись с ней в дверях класса, и я впервые в жизни отметил, что у девчонок могут быть такие огромные и такие синие глаза.
Я толкнул ее в плечо и браво сказал:
– Эй, не крутись под ногами!
– Болван, – ласково сказала Нора и прошла мимо, как будто я был деревянный. Обычно девчонки говорят: дурак, а она сказала – болван.
После этого я в нее влюбился.
Как и всякий двоечник, я сидел на последней парте, у окна. Я всегда завоевывал себе это место, потому что в окно можно было смотреть на улицу и, самое главное, ловить на стекле мух, которых я очень ценил.
Нора сидела на первой парте в среднем ряду. Из моего глухого угла было очень хорошо видно ее белокурую голову. Я так любил на нее смотреть, что скоро стал различать голубую жилку на виске. И когда учительница «ведала» классу, что такое есть наречие, или «раскрывала бессмертные образы русской литературы», я оцепенело смотрел на тонкую голубую жилку и считал, сколько она сделает ударов, пока лихая мушиная тройка провезет проволочную колесницу по крышке парты. Я перестал делать Норе подножки на переменах и однажды заявил бабушке, что мне необходимо купить ксилофон. Бабушка была растрогана тем обстоятельством, что я уже второй месяц учусь в новой школе и меня до сих пор не выгоняют, и дала мне денег. В воскресенье я пошел на главную улицу города и купил полуигрушечный ксилофон.
Я поставил инструмент в сарае на бочку и день и ночь стучал деревянными палочками по звонким трубчатым ребрам. Единственное существо в этом мире – моя верная собака Пальма понимала мое устремление стать музыкантом и, выступив на новогоднем концерте, поразить гордую Нору прямо в сердце. Моя верная Пальма приходила в сарай, садилась напротив инструмента и, свесив красный мокрый язык на черные бархатистые губы, слушала.
Осиянный мечтой, я выбивал могучую заливистую дробь. В порыве переломил обе палочки, и пришлось выстрогать новые. В тех местах, где у меня получалось особенно выразительно, Пальма восхищенно подвывала и шевелила хвостом. Ах, Пальма, как я был благодарен ей в эти минуты!
Полтора месяца оставалось до Нового года, и я верил в успех.
Все это было в теплом городе, где не бывает зимы.
Однажды, на уроке физкультуры, мы играли в лапту. Маленький ворсистый мяч попал ко мне в руки. Оглядываясь, Нора бежала от меня. Ее золотистая коса дразнила и билась о плечики форменного коричневого платья.
Я хладнокровно прицелился и, широко размахнувшись, с восторженной силой запустил литой мяч.
Нора схватилась обеими руками за голову и упала на бок. Край платья подвернулся, и я увидел тонкую ногу в чулке, стянутую выше колена широкой зеленоватой резинкой, розовый просвет и голубое.
Игра остановилась. Все побежали к ней. А я стоял и чувствовал сладостное облегчение во всем теле, и руки дрожали от любви, и я улыбался, улыбался…
Нору подняли. Большой круглый синяк вспух у нее над глазом. А я все улыбался чему-то совсем непонятному, могучему и упоительному. В стае девчонок, заплаканная, ушла Нора. А я улыбался…
– Петлов, лазве мозно так бить? – сказал шепелявый физрук.
– Можно, – сказал я.
– Дикаль! Хулиган! Дикаль! – закричал физрук.
А я ушел домой, даже не взяв портфеля: разве можно было зайти в класс, где могла быть она?
Придя домой, я вошел в сарай и, взяв инструмент, изо всей силы ударил его о пол. Звонкие трубки разлетелись по углам. Пришла Пальма, понюхала трубки и не осудила меня – она всегда понимала хозяина.
Больше я не возвращался в эту школу. Я слышал, как бабушка объясняла соседке, что, наверное, мне нужно «пересидеть» годик, выждать переходный возраст. И бабушка дала мне отпуск до следующей осени. Я был очень благодарен бабушке и со следующей осени стал благопристойным мальчиком, а потом – благопристойным юношей.
Но больше уже никогда и никого мне не хотелось так сильно ударить мячиком.
1961
Дед Лейбо
Увидев красивую вещь, старый еврей Лейбо обычно говорил: «Я бы взял за нее столько-то рублей». Именно взял, а не дал.
Наш район старого рынка – район глухих переулков и залитых помоями черных тупиков – отличался тем, что низкие дома стояли здесь стена к стене и, вскочив на крышу одного дома, можно было пробежать до следующего квартала. Так мы и делали в детстве, когда играли в «казаки-разбойники».
Дед Лейбо жил в нашем дворе на двенадцать хозяев в глинобитной завалюшке с окном в потолке и занимался тем, что перепродавал на базаре всякую рухлядь, которую несли ему со всей округи те, что стеснялись продавать сами. Летом он ходил в синагогу в белом парусиновом костюме и белой кепке с пуговичкой. Он говорил «ларок», «майстер», «сентр», любил жаловаться на свои болезни и на то, что «цены падают» и «трудно копейку иметь».
В те времена я был очень подлым мальчиком: во главе двух-трех товарищей залезал ночью на плоскую крышу, подбирался к окну в потолке его комнаты и мяукал так отчаянно-противно, как умел на всей улице только я один.
А потом, когда у меня появился электрический фонарик «жучок», мне полюбилось светить спящему деду в лицо, хлестать комнатушку таким мгновенным лучом, чтобы и проснувшись он не успевал сообразить, в чем дело. Комнатушка была голая, только на стене, над его кроватью, висели два портрета молодых мужчин в военной форме. Позднее я узнал, что это сыновья деда Лев и Давид, погибшие на фронте.
– Слухайте, вже силов моих нету, знова бомбежка мерещилась, знова Киёв, – говорил он поутру соседям, – и эти коты проклятые, спасенья нету, надо настоящее окно строить…
Пожалуй, дед Лейбо любил поговорить о своем будущем окне даже больше, чем о болезнях и деньгах. Помнится, когда он говорил об этом окне, его карие глазки увлажнялись, кончик маленького носа краснел, он снимал очки и взволнованно протирал стекла полою парусинового пиджака.
Шли годы. Жизнь становилась с каждым днем все лучше. Цены на старую рухлядь катастрофически падали, шансов разбогатеть и построить окно оставалось у деда Лейбо все меньше и меньше.
Ему было восемьдесят, когда в один прекрасный летний день его вызвали в военкомат и сказали:
– Дед, у тебя было два сына – Лев и Давид. Тридцать лет ты получал пенсию за младшего – рядового Льва Лейбо, погибшего смертью храбрых. А твой старший сын, капитан Давид Лейбо, считался пропавшим без вести. Теперь выяснилось, что он тоже погиб смертью храбрых. Ты получал за младшего девятнадцать рублей в месяц, а за старшего полагалось бы шестьдесят, потому что он офицер. Подавай в суд – и получишь разницу за тридцать лет.
Случилось так, что в те дни я приехал домой погостить. В нашем дворе жило много новых людей, ведь с тех пор, как я мяукал на крыше, прошло двадцать лет. Дед Лейбо пригласил меня к себе, рассказал о беседе в военкомате и попросил подсчитать, «сколько это будет?».
– Четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят рублей, – доложил я через минуту.
– А на старые? – дрогнувшим голосом спросил дед.
– На старые деньги почти сто пятьдесят тысяч. Хватит окно построить и новый дом купить. Давайте напишу заявление.
– Нет, – остановил меня дед Лейбо, – не надо, я так, для интереса просил тебя сосчитать… – Он задумался, вздохнул и тихо добавил: – Нет, нет, как же я… Левко меня всю жизнь кормил, как же я его теперь… предам? Нет!
Так и не стал судиться «за разницу» дед Лейбо, о котором не только в нашем дворе, во всей округе каждый знал, что он «удушится за копейку».
1975
Попутчик
Ухают под полом вагона литые колеса. За толстыми стеклами косо летят в мутно-серую бездну дальние лесополосы. Опрокидываются навзничь телеграфные столбы. Приплясывают на стыках пригорки, чернеющие среди рябых полей, едва припорошенных первым снегом. О лете напоминает лишь этикетка с зелеными березами, наклеенная на поллитровке российской водки.
– Декабрь проходит, мать твою, а снега ни хрена нету! – нежно глядя в поля, говорит мой сосед.
– Ты бы при ребенке не матюкался.
– А Сашка у меня свой парень, скажи, Сашка! – Он треплет за узкое плечико равнодушно увертывающегося от его руки шестилетнего сына. – Мы люди простые, институтов не кончали. Русский язык без мата все равно как справка без печати.
– Вырастет, тебя же матюкать будет. Вспомнит отцовскую науку.
– Чего? Я от него независимый. На старости мне пенсию дадут, государство об нас заботится. Давай лучше выпьем… Давай, студент, выпьем!
– Спасибо, не хочу.
За окном зябко, выпить я бы не прочь, да пить его водку противно. Когда шагнул я с перрона Курского вокзала в этот вагон, у меня оставалась в кармане одна-единственная трешка. Рубль взяли за постель, и ехал я домой, что называется, на честном слове.
– Значит, не хочешь? Ладно, – он делано улыбается, показывая четыре золотых зуба, наливает себе в пластмассовый стаканчик, пьет залпом, остервенело мотает сухой маленькой головой с редким русым чубом, нюхает докторскую колбасу и ею же закусывает.
Я закрываю глаза, будто дремлю. Мы едем вторые сутки. Я уже многое знаю о моем попутчике. Звать его Миша, он горняк – работа вредная, опасная и денежная. Месячный заработок Миши в пять раз больше месячного заработка врача, инженера или учителя. Это он сам привел мне такую статистику, при этом его светло-коричневые, близко посаженные глаза полнились золотым блеском.
– Вот ты, студент, жмешься на какую-нибудь тридцатку в месяц, кашу наворачиваешь, всю жизнь учишься, а толк какой? Я три класса да два коридора кончил, а не жалуюсь – за получку расписаться сумею, больше и не надо. Эти там учителя или врачи, инженера, всякие ученые, они таких денег не видели!
Я чего… вкалываю! Я простой… работяга… вкалываю и на доске висю – почет-уважение. Захотел – напился, я простой… вкалываю! Без меня куда денешься? Я вкалываю… Повкалывал – и гроши на бочку, пжалста, распишитесь, Михаил Игнатыч! Тоисть это я, – так он изъяснялся мне в первый день нашего путешествия, наставлял, поучал, без конца хвастался: своими заработками, своим плащом болоньей, своим проигрывателем, своей якобы необыкновенной силой и успехом у женщин.
О проекте
О подписке