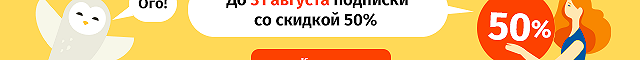
Глава 1
Накануне
Общее положение на южном участке советско-германского фронта к моменту начала Малгобекской оборонительной операции
Спустя год после вторжения войск нацистского рейха в пределы СССР развитие военно-стратегической ситуации на советско-германском фронте Второй мировой войны приблизило мир к кульминационному моменту этого грандиозного противостояния. Таким моментом суждено было стать летней кампании 1942 г.
К этому времени уже стало очевидным, что война окончательно утратила перспективы стремительного и победоносного для держав оси завершения в рамках одной молниеносной кампании, как это, собственно, было предусмотрено планом «Барбаросса», в соответствии с которым разрабатывалась агрессия против СССР и который вермахт пытался реализовать в беспрецедентной по размаху осуществления и масштабу задействованных сил и средств кампании предыдущего, 1941 г. Однако попытки эти, как известно, потерпели полный крах в результате успешных действий советских войск зимой 1941 г. Несмотря на не имевшие (и не имеющие по сей день) аналогов в мировой истории войн по масштабу и тяжести последствий военные поражения лета и осени 1941 г., СССР сумел отразить ставшие апогеем немецких военных усилий в 1941 г. два наступления группы армий «Центр» на Москву в октябре и ноябре 1941 г., остановить продвижение войск групп армий «Север» и «Юг» на ленинградском и ростовском направлениях и, наконец, организовать успешные контрнаступательные операции под Тихвином, Ростовом и Москвой, переросшие в общее контрнаступление Красной армии зимой 1941/42 г.
Поражения стран-агрессоров в первую зимнюю кампанию на Восточном фронте, едва не приведшие Третий рейх и его союзников к глобальной военной катастрофе спустя всего лишь полгода после нападения на СССР, имели огромное военное, экономическое и психологическое значение. Помимо того что впервые вермахт познал всю горечь поражений, которые до тех пор сам привык наносить всем без исключения своим противникам как на Западе, так и на Востоке; помимо того что поражения эти постигли его лучшие, наиболее боеспособные и подготовленные части и соединения на важнейшем театре военных действий; помимо шокирующих цифр потерь немецких вооруженных сил убитыми, ранеными и обмороженными – помимо всего этого война на Востоке, планировавшаяся и развязанная в надежде и даже твердой уверенности на стремительный успех, приобрела характер затяжной, причем в условиях, к которым армии агрессора были совершенно не готовы ни с материальной, ни с моральной точек зрения.
В то же время для народа, армии и руководства СССР победы зимы 1941/42 г. стали поистине глотком надежды в безнадежной, казалось бы, ситуации. Кроме того что они наглядно показали пусть пока и небезупречную боеспособность Красной армии; способность ее командования и в целом военно-политического руководства страны справляться с катастрофическими ситуациями (в которые, справедливости ради отметим, страна была ввергнута не в последнюю очередь по вине их прежней недальновидности и бездарности); наконец, не теоретическую, а вполне практическую возможность нанесения пусть и не сокрушительного все еще поражения непобедимым доселе войскам вторжения, представлявшим по праву считавшуюся на тот момент лучшей в мире армию, – они также воодушевили страну и народ на продолжение вооруженной борьбы и вселили все более крепнущую надежду на достижение конечной победы.
В свете вышесказанного неудивительно, что летняя кампания 1942 г. на советско-германском фронте определялась обеими противоборствующими сторонами как решающая и была признана военно-политическим руководством и в Москве, и в Берлине способной оказать определяющее влияние на весь ход и исход вооруженной борьбы на этом, ставшем к тому времени, без сомнения, важнейшим театре военных действий Второй мировой войны.
По завершении зимней кампании советские Вооруженные силы, хотя и нанесли в предшествующий период ряд чувствительных поражений противнику, пока еще значительно уступали ему и по численности, и особенно по технической оснащенности. СССР не обладал готовыми резервами и такими материальными ресурсами, которые позволили бы ему добиться решающей победы в ближайшее время.
В это время Вооруженные силы Советского Союза только в действующей армии насчитывали 5,6 млн человек, из которых в сухопутных войсках было около 4,9 млн человек, или 87,5 процента. Действующая армия состояла из 293 стрелковых и 34 кавалерийских дивизий, 121 стрелковой бригады трех-четырехбатальонного состава и 56 отдельных танковых бригад, 12 укрепленных районов и ряда других частей. Все эти соединения входили в состав 48 общевойсковых армий и 3 оперативных групп, объединенных в 10 фронтов и 1 зону обороны. Советское Верховное главнокомандование продолжало развертывать стратегические резервы. На 1 апреля в их состав входили: управления 2 общевойсковых армий, 24 стрелковые и 3 кавалерийские дивизии, 5 стрелковых и 1 танковая бригады, 1 укрепленный район, 3 авиационные бригады (в них входило 12 полков) и 25 отдельных авиационных полков. Всего в резерве насчитывалось около 205 тыс. человек, 1632 орудия и миномета, 155 танков, 225 самолетов. Многие соединения и части резерва находились еще в стадии формирования.
Двумя фронтами (более 40 дивизий) советские Вооруженные силы прикрывали дальневосточные границы. Военные округа имели задачу готовить пополнения для действующей армии [144, с. 21–22].
В начале марта 1942 г. Ставка рассмотрела перспективы развития военных операций на летнюю кампанию [80, с. 34].
Как вспоминал маршал А. М. Василевский, в Генеральном штабе и Ставке считали, что основной ближайшей задачей советских войск должна быть временная стратегическая оборона. Ее цель – изматывая оборонительными боями на заранее подготовленных рубежах ударные группировки врага, не только сорвать подготавливаемое фашистами летнее наступление, но и подорвать их силы и тем самым с наименьшими для нас потерями подготовить благоприятные условия для перехода Красной армии в решительное наступление.
К середине марта Генеральный штаб завершил все обоснования и расчеты по плану операции на весну и начало лета 1942 г. Главная идея плана: активная стратегическая оборона, накопление резервов, а затем переход в решительное наступление.
Сталин, не считая возможным развернуть в начале лета крупные наступательные операции, был также за активную стратегическую оборону. Но наряду с ней он полагал целесообразным провести частные наступательные операции в Крыму, в районе Харькова, на льговско-курском и смоленском направлениях, а также в районах Ленинграда и Демянска. Начальник Генерального штаба Б. М. Шапошников стоял на том, чтобы не переходить к широким контрнаступательным действиям до лета. Г. К. Жуков, поддерживая в основном Шапошникова, считал в то же время крайне необходимым разгромить в начале лета ржевско-вяземскую группировку врага. Главное внимание в плане, естественно, уделялось Центральному направлению, отмечает А. Василевский [56, с. 156].
Германия и ее союзники, планируя свои действия в летней кампании 1942 г., исходили из более трезвых посылов, чем годом ранее, накануне нападения на СССР. К. Типпельскирх пишет: «Летняя и зимняя кампании 1941 г. дали большую нагрузку немецким войскам, однако они сохранили свою наступательную мощь как в моральном, так и физическом отношениях. Но все же она была недостаточной, чтобы вести наступление на всем фронте общей протяженностью около 3 тыс. км. Только при объединении всех танковых и моторизованных соединений на одном участке фронта еще можно было бы рассчитывать на полный успех. На остальных же участках нужно было лишь стремиться к тому, чтобы восполнить потери, понесенные за год боев, и сделать войска снова полностью боеспособными и подвижными» [165, c. 310].
Такой непредвиденный для фашистского руководства поворот событий привел к серьезным затруднениям с людскими ресурсами. И все же вооруженные силы фашистской Германии весной 1942 г. были достаточно мощными. В них находилось 8 600 тыс. человек. От этого количества сухопутные войска составляли 71,5 процента. Они имели 226 дивизий и 11 бригад, в которых насчитывалось 43,2 тыс. орудий и минометов (без 50-мм минометов и зенитных орудий) и 5719 танков и штурмовых орудий. Качество боевой техники и вооружения было достаточно высоким. Военно-воздушные силы Третьего рейха располагали 4750 боевыми самолетами.
Основная масса вооруженных сил фашистской Германии находилась на советско-германском фронте. Пользуясь отсутствием второго фронта, немецкое командование зимой 1941/42 г. направило на советско-германский фронт более 40 новых дивизий и значительное количество маршевого пополнения. На 1 апреля здесь было 176 дивизий сухопутных войск (в том числе 21 танковая и 14 моторизованных) и 9 бригад. На советско-германском фронте действовали также 14 финских дивизий и 8 бригад, 7 румынских дивизий и 7 бригад, 3 венгерские дивизии и 2 бригады, 3 итальянские, 2 словацкие и 1 испанская дивизии [144, с. 23–24].
Поскольку после проигранной зимней кампании 1941/42 г. и связанных с этим огромных людских и материальных потерь державы фашистского блока не могли организовать повторения летне-осеннего наступления 1941 г. по всем стратегическим направлениям, было сочтено целесообразным выбрать для нанесения главного удара одно из них, а именно – южное, на севере же и в центре ограничиться активной обороной. В соответствии с директивой № 41, подписанной Гитлером 5 апреля 1942 г., приоритетное значение отдавалось овладению крайне важными с точки зрения экономики – особенно в условиях превратившейся в затяжную войну кампании на Востоке – районами Советского Союза, в первую очередь – Северным Кавказом [143, с. 403].
В этом смысле, несомненно, решающим аргументом при выборе кавказского направления как основного в летнем наступлении на Восточном фронте стали соображения экономического плана, прежде всего вопрос о контроле за кавказской нефтью. Контроль этот являлся ключевым как для Германии, которая начинала в условиях разворачивающихся бомбардировок союзной авиацией промышленных объектов на территории рейха и его европейских сателлитов, а также непрерывно растущих расходов топлива для увеличивающегося парка военной техники испытывать первые признаки нефтяного голода, так и для СССР, который в случае утраты Северного Кавказа не только лишался источников углеводородного сырья, расположенных непосредственно на этой территории в виде майкопских и грозненских месторождений (причем последние обеспечивали Красную армию наиболее качественными видами бензина, в первую очередь – авиационного), но и оказывался отрезанным от своего важнейшего нефтяного района в Баку. Таким образом, в условиях, когда нефть юга являлась практически единственным мощным поставщиком ГСМ для Красной армии, ее потеря могла иметь фатальные последствия для исхода войны для СССР.
Географическое положение Кавказа определяет его стратегическое значение. В довоенный период через Кавказ и порты на Черном и Каспийском морях осуществлялся значительный внешнеторговый грузооборот Советского Союза. В годы войны торговые пути, идущие через Персидский залив, Иран, Каспийское море, занимали второе место после Северного морского пути в подвозе вооружения, стратегического сырья из Соединенных Штатов и стран Британской империи.
К лету 1942 г. с потерей Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей экономическая база Советского Союза резко сузилась: выплавка стали сократилась более чем на 10 млн тонн в год; сбор зерновых – более чем в три раза; уменьшились мобилизационные ресурсы в связи с оккупацией врагом части советской территории. В создавшихся условиях оборона Кавказа приобретала для Советского государства жизненно важное значение. На долю Северного Кавказа и Закавказья приходилось 86,5 процента общесоюзной добычи нефти; 65 процентов природного газа; 56,5 процента марганцевой руды. Бакинский район давал почти три четверти всей нефти, добывающейся в СССР [154, с. 6].
В свою очередь, для Гитлера чем дальше, тем больше вопрос овладения нефтяными ресурсами становился важнейшим в плане продолжения и успешного завершения войны. В этой связи вполне понятна позиция Гитлера, заявившего 1 июня 1942 г. в штаб-квартире группы армий «Юг» в Полтаве, что если он не получит нефти Майкопа и Грозного, то должен будет «ликвидировать войну» [144, c. 25].
Немаловажное значение имело и политическое значение овладения Кавказом. Это могло оказать решающее воздействие на принятие решения Турцией, соблюдавшей нейтралитет, но имевшей 26 дивизий на границе с СССР [375, с. 18]. Германия была заинтересована в скорейшем вступлении Турции в войну против СССР, активно ее к этому подталкивая, но это во многом зависело как раз от успехов немецкого оружия на Кавказе [173, с. 421].
Наконец, без овладения нефтяными ресурсами Кавказа было невозможно последующее освоение территорий, которые планировалось колонизировать на Востоке после победоносного завершения войны [374, с. 57].
О проекте
О подписке