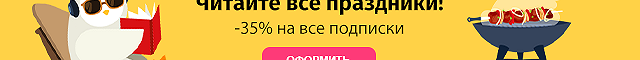
Не потому ли сам Пушкин, думалось, вероятно, Гоголю-Яновскому, так демонстративно смеялся при чтении пьесы, что ощущал себя почти что ее соавтором? Не зря, в таком случае, твердили, будто бы сетовал он, что с этим «хохлом», то есть с Гоголем, («Гогольком», как называл его сам Жуковский), следует постоянно держаться настороже. Не то оберет, как липку.
Что ж, собирая подходящие сюжеты, выуживая их в повседневной жизни, в разговорах с приятелями и знакомыми, собирая на страницах газет и журналов, Пушкин, точно, фиксировал все подходящее на клочках бумаги. Клочки копил и хранил в громадной старинной вазе, чтобы потом, утопив в ее горловине руку, выудить всё, что подсунет слепая фортуна…
Конечно, слухи о пушкинской вазе, о сетованиях ее владельца, могли преждевременно достигать ушей начинающего литератора Гоголя-Яновского. А, быть может, так оно и произошло…
Уступая настоятельным просьбам Николая Васильевича, стуча искусно отполированными ногтями на пальцах обеих рук, Пушкин действительно коснулся ими химеричного своего сосуда. Прошуршав в ее узеньком горлышке левой ладонью и вытащив донельзя скомканную, смятую бумажку, он, лишь скользнув по буквам глазами, затолкал лоскуток обратно туда, на прежнее место в своем странноватом сосуде, и тут же вцепился в нечто совершенно другое.
Колебания же поэта Гоголь-Яновский воспринял по-своему. Не в этот ли миг сверкнула в его голове озорная мысль об излишней прижимистости давнего кумира? Она и навела на шальной до одури замысел. Поступок Пушкина стал толчком к зарождению образа скопидома Плюшкина!
То был минутный порыв, от которого писатель впоследствии сотни раз был готов откреститься. Но увиденное прочно внедрилось ему уже в голову. Попало в сильно изгвазданную переделками авторскую рукопись, и, в конце концов, – обрело самостоятельное существование…
Конечно, неожиданный кувырок, загогулина в мыслях составляла его большущую тайну. Однако рассуждения автора будущих «Мертвых душ» при всем этом могли оказаться самыми прозаическими: зачем изнывать над придумками, а не подбирать их уже в совершенно готовом виде?
И это также неудивительно. Гоголь, по собственному его признанию, во всем своем творчестве оперировал одними лишь достоверными фактами, черпая их в окружающей действительности. Приятель Пушкина, Павел Воинович Нащокин, совершенно неожиданно, под его пером, дал жизнь бесшабашному наглецу и лгуну Ноздреву[4](близкое соседство: щека – ноздря, как и созвучие Пушкин – Плюшкин). Конечно, одно дело Нащокин, иное – глубоко почитаемый всеми Пушкин… Но, поразмыслив, удалось прийти к какому-то вроде консенсусу с крайне податливой совестью: в подобном приеме не содержится чего-то обидного для великого поэта. Так поступают все литераторы. Любая деталь, отмеченная творцами, проставленная на листке бумаги, становится частью их знаменитых литературных творений…
Существовали и другие причины указанного охлаждения. Пушкин был недоволен, если даже не шокирован просто своей журналистской деятельностью. Лелеянный им журнал «Современник» не мог добиться признания даже внутри петербургского литературного сообщества. Издание не скоро сулило возмещение уже потраченных было денег: набиралось всего лишь семь сотен подписчиков…
Знаменательными стали Гоголевы слова, помещенные в письме к Погодину от 1 ноября (по новому, уже европейскому стилю) 1836 года, из-за рубежа, что «дело журнала требует более или менее шарлатанства. Посмотри, какие журналы всегда успевали!». Безусловно, подобными «свойствами» не обладал постоянно заботящийся о собственном, дворянском renom[5]и облике поэт Пушкин.
Конечно, и эти слова, и фамилия автора их едва ли стали известны Александру Сергеевичу. А все ж проницательный ум поэта не мог не отметить и других, аналогичных высказываний Гоголя-Яновского, относящихся к журнальной сфере. Чуткий ко всему, что касалось дворянской чести, Александр Сергеевич всегда реагировал каким-то исключительно оригинальным образом.
Самого же Пушкина, как сочинителя, многие читатели почитали светилом, угасшим на взлете, а то и в зените. Знаменитый впоследствии критик Виссарион Белинский, восходящий пока на орбиту зрелой литературной известности, без обиняков поставил во главе всей русской изящной словесности именно провинциала Гоголя.
Вдобавок ко всему нами сказанному, у поэта назревал томительный кризис в отношениях с собственным свояком Дантесом. Это также могло отпечататься на его до предела чуткой натуре…
Как бы там ни было, Пушкин не присутствовал на первом представлении «Ревизора», на которое притопал даже 67-летний Иван Андреевич Крылов. А Гоголь, как он выразился, прекратил работу над «Мертвыми душами», несколько глав из которых, по его словам, были прочитаны Александру Сергеевичу.
Что же, сюжет проклевывавшегося романа, как и пьесы «Ревизор», был также уступлен Николаю Васильевичу поэтом Пушкиным.
Да и с повестью «Тарас Бульба» была связана какая-то подозрительная неопределенность. Собственно, поэт похвалил ее первые главы, назвав их достойными романов Вальтера Скотта… Получалось, в душе у него очень прочно засели увещевания императора, о которых неоднократно рассуждал он с создателем «Ревизора»?
Остальное же…
Уезжая за границу, думая о новых собственных замыслах, за которые примется в Швейцарии, Гоголь, вне всякого сомнения, увозил затаенную мысль улучшить каким-то образом повесть о Тарасе Бульбе, добиться полнейшего одобрения ее из уст поэта Пушкина…
Но чем…
Как улучшить?
* * *
Что касается Тараса Бульбы, то на страницах повести предстает он дебелым мужчиной «двадцати пудов весом», в широких, как море, огненно-красных шароварах, со скользящим по бритому черепу оселедцем-чубом, со схожими на чубы свисающими усами. Засучив рукава, он готов хоть сейчас испытать уже дерзость и силу собственных сыновей[6].
Днем рождения Тараса Бульбы можно считать 20 февраля 1835 года. Дата эта четко высвечена в переписке Гоголя-Яновского. Цензурное разрешение на сборник «Миргород», вобравший в себя все указанное произведение, получено было 29 декабря еще предыдущего, 1834 года. А решилось это событие ровно через девять месяцев после того, как писатель, усевшись за рукопись, вымарал в ней наличествовавшее прежнее прозвание основного героя и спешно вывел другое – Бульба. Созвучие слов Тарас[7]и Бульба показалось автору вполне подходящим.
Сборник «Миргород» подготовил сочинитель, уже «швырнувший» в свет сборник рассказов под общей обложкой «Вечера на хуторе близ Диканьки». Первую книгу его восторженно принял даже несколько озадаченный Пушкин, сочинитель поэмы «Полтава», действие которой вскипает в тех же малороссийских краях, на взгорьях которых шепчутся темные тополя, а под ними, под черными стрехами, улыбаются белостенные избы. Прозрачным видится в Малороссии даже чистое звездное небо.
Замысел поэмы, ее исполнение, по словам Пушкина, одобрил всё понимающий польский поэт Адам Мицкевич… Непревзойденный песнопевец… Неповторимый, к тому же, импровизатор…
Правда, к этому времени Пушкин сам ощущал актуальность неизбежного перехода на «умную» прозу. Склонялся к мысли, что поэзия выглядит все-таки несколько «глуповатой»…
Кажется, Тарас Бульба обладает способностью понимать исключительно все, что только лишь существует на свете. Ему впору порассуждать об античных римлянах, вроде оратора Цицерона и поэта Горация, к наследию которых, как и его сыновья, приобщался он, вероятно, также в мудрой Киевской академии. Конечно, в последнее время начал он путать Горация с Гораськом (Гераськом, Герасимом)…
И все же знакомство с мировой культурой не возымело на Бульбу решающего воздействия. В этом легко убедиться при более внимательном чтении текста всей повести.
Через несколько мгновений, после схватки на кулаках со старшим сыном, Тарас уже восседает в своей невысокой, хоть и довольно просторной светлице. Необъятный стол перед ним прогибается от обилия яств и напитков. Главенствует надо всем горилка…
Старый казак вполне удовлетворился параметрами сыновних кулаков. Он доволен судьбою, окружающими его людьми, которые хоть и представлены за столом только личностью подопечного ему есаула Товкача с двумя полковыми старшинами, но как-то вяло себя проявляют. Тарас понимает, до чего быстротечна всякая молодость. Как ненадежны любые телесные силы. Надо скорей насладиться собственной удалью. Приобщаться к большому делу.
Надо воевать!
Буйный оселедец Тараса Бульбы слегка лишь примят черной шапкой с огненно красным верхом. Обшитая шелком рубаха, за исключением, быть может, полоски воротника, исчезла под кармазиновым жупаном, перехваченным еще более ярким узорчатым поясом. На нем красуется острая сабля. За пояс же сунуты чеканные пистолеты. Привязано к нему и огниво, и тоненькая веревка: – чтобы тотчас же «пеленать» неприятелей, в надежде на получение еще более щедрого выкупа. Вдобавок, под усами Тараса, попыхивая дымком, приплясывает трубка-люлька. За спиной у него – «самопал-рушница» и дыбится к высокому небу длиннющее чересчур копье. Чудится, оно просто царапает синеющие небеса…
С присущей ему нерастраченной удалью взлетает Тарас на коня под прозванием Черт. Чтобы тотчас отправиться… в бессмертие.
* * *
Образ Тараса Бульбы в сознании маленького Никоши Яновского начал вырисовываться чуть ли не сразу же после появления на свет самого своего сочинителя.
Рано стали убаюкивать песни, которые зарождались в разных концах родовой Васильевки-Яновщины. Но чаще всего – на открытых пригорках возле мелко и часто трясущихся ветряков. А еще – на просторном выгоне. Звуки бубна и нескольких громких сопелок неудержимо просачивались сквозь самые звонкие человеческие голоса. Они перемешивались с резким постукиванием над ближним от дома колодцем, что при громоздком гнезде, для всех изнемогших в полетах, мерно кружащих аистов.
Засыпал, как обычно, под монотонный, какой-то загробный голос старушки Гапы, своей, вместе с братцем Ивасиком, исключительно бдительной, страшно заботливой, непрерывно стареющей дряхлой няньки… Собственно, в этом и заключался ее изъян… Под этот же голос просыпался он каждое утро. Одновременно с ним оживлялись его отдохнувшие за ночь желания: хоть бы разок еще прокатиться куда-то в поля… Обоих мальчишек брал с собою в поездки отец.
Поражали также сельские ярмарки. Нравились красочные толпы на церковных праздниках. Но особенно привлекали изображения человеческих фигур. Они наличествовали не только при церковной паперти в самой Яновщине. Торчали при входе в прочие сельские церкви, переполненные нищенским людом. Бросались в глаза на просторных корчемных подворьях, где постоянно томятся воловьи упряжки. Водились на постоялых дворах, куда время от времени заворачивала отцовская бричка. Встречались также в домах у соседей-помещиков…
На приличных размеров плоскостях восседал один и тот же мужик с округлым, как тыква, лицом, украшенным щетками длинных волос. Дополнением к его волосатости служили такой же длины усы под крепким квадратным носом. Глаза изображенных людей нацелены были в сторону чарки с горилкой, непременно торчащей у них перед глазами. Верхнюю часть всего тела, вплоть до красного пояса, прикрывала вышитая ярким цветом рубаха. Руки, внутри удлиненных, покрытых узорами рукавов, были заняты струнами легковесной бандуры. Ноги, подвернутые под жилистое туловище, покоились в пространственных шароварах. Шаровары казались настолько широкими, что едва обнажали присутствие красных сапог. К поясу с алым отливом прицеплена была длиннющая сабля. При чарке бугрилась баранья шапка с красным же верхом…
Чтобы окончательно показать, каким преимуществом располагают таинственные эти фигуры, на заднем плане каждой картины, за дюжими спинами, красовался оседланный конь, не упускавший попутной возможности полакомиться щедрой изумрудной травою…
При первой же встрече с этим загадочным изображением, сутулясь под чужим неотрывным взглядом, Никоша Яновский не выразил вслух ни малейшего интереса. Отец на ту пору барахтался в разговорах с людьми, обступавшими его двойным, исключительно плотным кольцом. Когда же Никоша, уже перед третьим или четвертым подобного рода изображением, обратился с вопросом, кто это там так нещадно буравит взглядом его и братца Ивасика, Василий Афанасьевич с готовностью отозвался:
– Казак Мамай! Он здесь везде…
Василий Афанасьевич очертил рукой круг, как бы желая слить в одно целое все окружающие изображения, и застыл в ожидании дальнейших расспросов. Однако ничего подобного никак не последовало. Слово «казак» выступало для маленьких барчуков отнюдь не новым. Казацкие подворья были густо посеяны вокруг Васильевки-Яновщины и других господских усадеб. О местонахождении их говорили высокие тополя на возвышенных крепко местах, видневшихся на расстоянии многих верст. Под защитою тополей кудрявились щедро разросшиеся сады, из гущи которых высовывались частые крыши, усыпанные ослепительным солнечным светом. Торчали гонкие журавли с развешанными на них тележными колесами.
Казаки же, как правило, ездили на возах, запряженных изрядно раскормленными лошадьми. Возы их, славясь своей добротной исправностью, никогда не скрипели. Казацкая одежда всегда поражала своей безупречной пригодностью.
Самих казаков, уж точно, полагалось принимать за людей особой породы. Выглядели они стройнее, ростом казались повыше всех прочих человеческих особей, отличались обритыми, кроме усов, веселыми лицами. Все казаки обожали скакать верхом, напевая при этом песни. Только и слышалось:
Їхав, їхав козак мiстом,
Пiд копитом камiнь трiснув…
Увидев затруднения сына, Василий Афанасьевич еще раз дополнил все уже сказанное:
– Запорожский казак… Теперь их… не существует… Почти нет… совсем…
Но и после этого Никоша не стал ни о чем расспрашивать. Ему выпадала возможность задуматься, что означает выражение «казак-запорожец».
Получается, он живет за порогом…
За каким именно?
Никоша так основательно погрузился в этот вопрос, что не отделался от него до того момента, когда нянька уложила братца в кроватку в чересчур удаленной от входа комнате, из которой предварительно попыталась изгнать рушниками всех мух. Насекомые затихли лишь после того, как была задута ярко вспыхнувшая свечка. Пустующее пространство мигом заполнилось черной тьмою. Ивасик тотчас же засопел в подушку. А Никоше вдруг примерещилось, будто казак Мамай, отделившись от красочной поверхности, переместился из корчмы сюда и грохнулся рядом на мягкость его постели. Казацкая голова, с пучком торчащих волос, даже примяла Никоше щеку.
– Цур тебе, пек тебе![8]– отодвинулся мальчик, не ощущая в себе ни малейшей боязни. – Твое место… за нашим порогом! Уходи! Да немедленно!
Удивительно: постороннего удалось обнаружить далеко не сразу. Никоша тоже приготовился было уснуть, но запорожский казак возник перед ним повторно. Видение оказалось настолько зримым, что Никоше пришлось окликнуть старуху няньку.
– Что с тобой, серденько? – пропела она, вплывая в комнату вслед за свечою.
– Он там, за порогом…
– Кто? – так и ахнула.
– Казак! Запорожец!
Нянька принялась гладить Никоше рыжую головенку, пребывая, однако, в полной уверенности, что это нисколько не повредит уже прерванной было молитве.
– Спи, мое серденько, спи… Никого там нету…
Однако видение казака не освободило пространство комнаты даже после ее заверений. Было явственно слышно, как пришелец уселся на корточки, дожидаясь, наверное, когда уберется прочь сама старушка-нянька.
– За порогом, бабушка! За порогом!
Нянька не задавала больше вопросов. Однако и не отпускала его мигом взопревших ручонок…
Очевидно, ночное происшествие не ускользнуло от внимания отца, Василия Афанасьевича. Призвав утром сына в свой крохотный кабинетик, он сразу же усадил его к себе на колени.
– Запорожские казаки, Никоша, – начал весомо отец, – жили за днепровскими порогами… Защищали нас от татар и турок. Не было силы, способной устоять перед ними. Если и удавалось кому-либо схватить запорожца, даже связать его самыми крепкими веревками, то пользы в том не было ни малейшей. Стоило запорожцу освободить один хоть палец, изобразить при помощи слюны лодку – и он уже весь на воле! Многие запорожцы прослыли подлинными волшебниками. Знали страшные заклинания…
– Так они – чародеи?
– Всё могли…
– И где они… сейчас?
Василий Афанасьевич отвечал со вздохом:
– Царица Екатерина велела либо войти в ее войско, либо стать хлеборобами…
– Стали хлеборобами?
– Далеко не все. Многие распевают на шляхах-дорогах. Сделались… бандуристами.
– А где живут?
Василий Афанасьевич неопределенно махнул рукою:
– Где уж придется…
И все же Никоша увидел живого запорожского казака. Уже после смерти братца Ивасика, почившего от мало кому и понятной болезни…
Запорожца привезли бродячие лицедеи. Явились с собственной скрыней на скрипучем возу, запряженном рябыми кобылами. Остановились на зеленой лужайке при каменной воловне. Туда, как один, сбежались все дворовые люди. Оставив свои неотложные занятия, пришел и Василий Афанасьевич. Явившихся лицедеев, оказалось, он знает даже по именам. По именам окликали их также дворовые.
– С Богом! – повелел Василий Афанасьевич, опускаясь на поднесенный лакеем стул. – Начинайте…
Что это было за зрелище! Меж деревянными приспособлениями, скрытыми в скрыне, о существовании которых зрители тут же успели забыть, возник непонятный доселе мир. Всё, что было рассыпано в сотнях, в тысячах молодиц, снующих на барском подворье, бредущих вдоль пыльных шляхов, работавших в поле, – всё было собрано здесь, в одном-единственном существе! Собственно, то было крохотное изваяние, почти как кукла. Однако оно оказалось настолько ярким, глазастым, неудержимо ворчливым человеческим естеством, что ни у кого среди зрителей не возникало даже малейшего подозрения, будто перед ними не сама настоящая молодица, по имени Явдоха. Подобие сельчанки было способно на такие разные выкрутасы в танцах и на такие бесподобные «жарты», которых не выдумать больше никому из присутствующих!
А какими живыми, настоящими выступали в деревянной рамке все ее собеседники! В первую очередь – недотепа-муж, мечтающий лишь о том, как бы наполнить себя оковитой[9], утаив всевозможную выручку от собственных нехитрых занятий.
А какой красиво-стыдливой выступала Явдохина дочь Парася! В веночке из полевых цветов, в белоснежной сорочке, красной корсетке, «картатой»[10]юбке и маленьких ярких сапожках! Как задушевно пропела она свои нежные песни…
Диву давался Никоша, сидя рядом с отцом и с восхищенным без края лакеем Якимом. Обычно неповоротливый и ленивый, Яким превратился вдруг в непоседливого кота. Откуда всё это, искренно восхищался он, могло появиться в обыкновенном панском подворье, перечеркнутом желтыми тугими тропинками, бегущими во всех направлениях?
Однако всё это было…
Было!
О проекте
О подписке
Другие проекты
