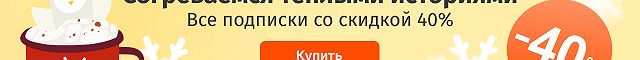
Глава 1
Утро
7 часов 30 минут[6]
– Да… да… Понял… Зарубим… – еще довольно моложавый, лет от силы под сорок, черноволосый, спортивного телосложения человек в отутюженном, без единой морщинки, сером костюме и белоснежной рубашке торопливо подавал в телефонную трубку эти слова-реплики. По тону, коим они произносились, не составило бы труда догадаться: подчиненное лицо заверяет в чем-то вышестоящее. Кажется, весьма и не на шутку раздосадованное; не исключено, даже разгневанное.
– Ляжем… Разобьемся, Евграф Федотыч… – Поймав очередную паузу, Кэремясов, секретарь Тэнкелинского райкома партии, всею грудью, точно надувал футбольный мяч, выдохнул – Обещаю! Слово коммуниста, товарищ Воронов!
Странный то был разговор. Хуже: подозрительный. Посторонний, очутись он невзначай свидетелем, да к тому же окажись не из числа беспечных лопухов, каких подавляющее большинство среди народонаселения, из числа сознательно-бдительной части его, вмиг бы усек-учуял неладное – скажем, сговор матерых махинаторов о хищении социалистической собственности. Не исключено, и в особо крупных размерах.
Глупо и смешно, конечно, сомневаться, что «где надо» не разобрались бы досконально, в чем дело, и не пожурили бы наивно-ретивого добровольца за ошибочку. Что ж, что говорили на непонятном языке? Это смотря кому загадочка – для профессионала тайны никакой. К примеру, ежели вышестоящее лицо грохнет кулаком по столу: «Зарубите себе на носу!» – что обязано отвечать лицо подчиненное? «Зарубим…» То же и с «разобьемся» – ответ на не подлежащий обсуждению приказ: «Разбейтесь в лепешку, а!..» Ну и так далее и тому подобное.
Было бы отчего сконфузиться тому «постороннему». Ну, да ведь и на старуху бывает проруха. Эх, тютя! Бедолага горемычный!
7 часов 45 минут
Хотя в завершение разговора начальство позволило себя утешить, смягчилось и, сменив гнев на милость, выразило уверенность в успехе – речь, между прочим, шла о выполнении государственного плана, – Мэндэ Семенович чувствовал себя выпотрошенным; сидел нахохленно, глыбисто ссутулясь. Глаза его тупо и полубессознательно елозили-разъезжались по испещренной пометками – воскликами, птичками и прочими ему лишь одному ведомыми закорючками-загогулинами– глянцевой странице тома в красном переплете. Видно, штудировал тщательно и скрупулезно – не абы как. Настольная была книга! И теперь вот обратился к ней, готовясь к докладу на очередном пленуме. За тем, собственно, и пришел в райком ни свет ни заря: в кабинете славно и просторно думалось. Именно в те редкие счастливые часы, когда бывал один и мог с наслаждением, без помех предаться мечтаниям, не опасаясь, что кто-то из бесконечных посетителей нарушит вольное течение их; и останется в душе горьковато-мутный осадок недодуманности, недовыстраданности. Точно прерванный в самый интересный момент сон…
Размышлялось в кабинете о делах не только государственных. Не гнал прочь и иных, обыденных мыслей, коли уж посещали – что ж! А пожалуй, и льстило: не сухарь, не прожженный бюрократ, стало быть. Взбрыкивала, случалось, и некая лихость. Некий, лучше сказать, кураж: «Где, извините, написано, что секретарю райкома должно быть чуждо что-нибудь человеческое?» И жмурился не без удовольствия, будто в этот момент одерживал верх в споре. Так и было: и спорил, и одерживал.
Торжествовать победу легко. Труднее уметь достойно пережить поражение. Сейчас Кэремясов не ощущал сам себя. Осталась пустая оболочка, а его не было. Не было – и все тут. Верь в мистику – так и решил бы. Слава богу, отрицал ее принципиально как лженауку. Это и спасло. Это и принесло прозрение. Мука и отчаяние, каковые он реально испытывал в эту минуту, не могли быть вне его плоти, вне его сознания, наконец.
– Да-а, положеньице… – узнал свой голос, хотя и прозвучавший как бы издалека, сдавленно. Обморок, кажется, начал проходить. И все же что-то невероятное продолжало с ним твориться и теперь. Он действовал чужой волей. Расскажи ему кто-нибудь (это мог быть невидимка, невесть каким образом оказавшийся в кабинете), какие жесты он производил в эти роковые мгновения, не поверил бы: «Не может быть!» – расхохотался бы. Но, увы, было. Что же? Так, подняв руку, откинуть со лба волосы («Всегда пользуюсь для этой цели расческой»), странно поразился и прерывисто захихикал, обнаружив в этой самой руке намертво зажатую телефонную трубку; после чего, досадливо крякнув (ну, кто бы не крякнул в этом разе?), шваркнул ее на аппарат («Чепуха! Не в моем характере срывать зло на чем или на ком-либо»). Э-э, уважаемый Мэндэ Семенович, не спешите – главное впереди. Вы, конечно, скажете, что не помните, как ваше собственное тело само выпросталось из-за стола и принялось шагать взад-вперед по широкой темно-бордовой дорожке, расстеленной в вашем скромном кабинете? «Ну, знаете, это уже полнейший бред! Умопомрачение какое-то!» А это называйте как хотите. Но было. Было…
Происходил ли такой душераздирающий диалог с невидимкою, Кэремясов тоже не помнил – некие впечатления действительно выскользнули-улетучились из памяти. Провал зиял – что верно, то верно.
8 часов ровно
Очнулся – точь-в-точь налетел на протянутую огольцами поперек дороги бечевку – перед портретом красивого большелицего человека с невообразимо густыми, по-молодому черными бровями. Он ободряюще, почти по-отечески смотрел на Кэремясова. «Я верю в тебя, Мэндэ! Ты не подведешь!» Возможно, говорил он другими словами, но смысл их, можно поручиться, был именно таков. И не мог быть другим.
«Ответь же!» – бухнуло, взорвалось сердце. Что? Как? Брякнуть с бухты-барахты: «Спасибо Вам за доверие!»? Не то! Нет, не то. Наверное, и нет подходящих слов. Захотелось взлететь. Радость проросла и, шумя победительно, плескалась-билась за спиной крыльями. Как раз сейчас ему была необходима духоподъемная сила – и вот она!
Мэндэ Семенович искренне любил этого Человека. Гордился быть его современником! Не-ет, не пустые фразы то были, не фанфаронство или, тем более, холуйское раболепие. Скажи: «Умри за него!» – не дрогнул бы.
Стало стыдно. Ох стыдно! «Это тебе-то трудно, Мэндэ, а ему каково? На его плечах – ДЕ-РЖА-ВА-А! Кто бы не надорвался, не износился под такой ношей? – И гнев полыхнул в груди: – Да-да, иные подонки: диссиденты и внутренние эмигранты – потешаются, дожидаются со злорадством, когда же Он собьется во время речи. Гогочут, гады!» Кэремясову казалось, что никто на целом свете не понимает и не сочувствует этому человеку. Но ведь должен быть кто-то, кто бы и понимал и сочувствовал? И это был он…
С усилием оторвался от портрета, сел за стол. Сразу же выхватил взглядом фразу из Его труда – не зря была подчеркнута жирной чертой: «Не может быть партийным руководителем тот, кто теряет способность критически оценивать свою деятельность, оторвался от масс…» Вторая часть цитаты тоже замечательная по глубине и мощи мысли: «…плодит льстецов и подхалимов, кто утратил доверие коммунистов» – к нему лично, Кэремясов мог побиться об заклад на что угодно, не относилась; но первая… касалась. И не только его – всех!
Взглянув еще раз с благодарностью на стену, Мэндэ Семенович приказал себе успокоиться: «Хватит нюни распускать, Мэндэ! Коммунист ты в конце концов или олух царя небесного? Думай, дорогой, думай, как выйти из положения!» Раскинуть мозгами и в самом деле было о чем. Еще как было.
8 часов 15 минут
«Что-о?! Предпринимать меры вы только собираетесь? О чем же, черт подери, вы, голубчики, думали до сих пор, а?.. От кого-кого, от тебя, Мэндэ, не ожидал, что подложишь такую свинью! Не ожидал, брат». И возмущение, и скорбь со слезой – в бурливом рокоте Евграфа Федотыча. Понимай так: не позвони он, не растормоши – сами и не почесались бы. Нет, не почесались бы. Куда там!
Кто бы, посторонний, вообразил, что кряжистый и в то же время легкий на подъем, с хитровато-ироническим прищуром в добром расположении духа, секретарь обкома может быть крутым, жестким. Уж он не станет гладить по головке провинившегося в чем-либо, будь он ему хоть сват,
О проекте
О подписке
Другие проекты