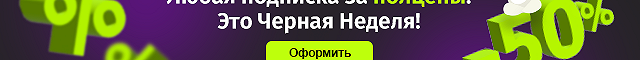
Служилое государство
Фактами подтверждаются слова Герберштейна о том, что великокняжеская власть применялась «к духовным так же, как и к мирянам» (хотя, конечно, в гораздо более мягкой форме). Об этом, например, свидетельствует судьба новгородского архиепископа Геннадия, смещённого Иваном III в 1504 г. и умершего в опале, или митрополита Варлаама, которого в 1521 г. Василий III «прогнал с кафедры совершенно так, как он прогонял от себя неугодных ему бояр»[91]. Причиной этого был, скорее всего, отказ святителя дать ложную охранную грамоту упомянутому выше Василию Шемячичу. Как мы знаем, преемник Варлаама, Даниил, оказался сговорчивее. Впрочем, при малолетнем Иване IV та же участь постигла и его, а затем и следующего главу Церкви – Иоасафа. Митрополит не избирался, а назначался великим князем «из лиц ему желательных и им указанных и, став митрополитом, по-прежнему оставался его подданным, вполне зависимым от князя»[92]. Только с согласия великого князя утверждались епископы и настоятели монастырей. Нет оснований не верить Герберштейну и в том, что духовенство «повинуется не только распоряжениям государя, но и любому боярину, посылаемому от государя». Барон «был свидетелем, как… пристав требовал что-то от одного игумена, тот не дал немедленно, и пристав пригрозил ему побоями. Услышав такое, игумен тотчас же принёс требуемое». Правда, митрополиты имели право «печалования» за опальных, но, как видим, нужно было иметь большое мужество, чтобы им пользоваться.
(Впрочем, необходимо отметить, что в своих епархиях архиереи выступали, по сути, самовластными владыками. «Управление вместо соборного стало единоличным таким образом, что у архиереев Московской половины Руси [в отличие от западнорусских епархий] исчезли соборы священников-клирошан и что по прекращению существования этих соборов они остались управлять епархиями одним своим собственным лицом…можно полагать временем окончательного исчезновения соборов у всех епископов вторую половину – конец XV века»[93]. Епископы в Московском государстве были «не только духовными архипастырями, заботившимися о спасении душ своих пасомых, но и очень важными, с обширными правами и полномочиями, государственными чиновниками, управлявшими целыми обширными областями, владевшими с соподчинёнными им монастырями очень значительными землями, множеством крестьян, всевозможными хозяйственными и промышленными заведениями, причём им, на основании царских жалованных грамот, принадлежала в их земельных владениях власть административная, судебная и финансовая, и царские чиновники не имели даже права въезжать в архиерейские владения»[94]. Епархиальная администрация состояла из светских чиновников, разряды которых дублировали разряды великокняжеского двора: бояре, дворяне, дети боярские, слуги. Эти светские лица вершили даже суд над церковниками. Рядовое духовенство, «свободное относительно государства, относительно своего епархиального архиерея было податным сословием, обязанным архиерею взносом известных податей, почему оно, в этом отношении, и приравнивалось к тяглому сословию, так что выражение “тяглые попы” сделалось официальным»[95]. За невыплату податей следовали наказания, например, запрещение служить, а то и плети. «В основе финансового управления епархией лежала частная воля святителя… Епархия была как бы его уделом, где он распоряжался, как ему было угодно: по произволу накладывал на духовенство сборы и освобождал от них»[96]. Неудивительно, что «дух чрезмерного властительства составлял решительную болезнь архиереев Московской половины Руси начала XVI века»[97].)
Знаток русских юридических древностей В.И. Сергеевич писал, что великие князья карали своих подданных не по закону, а «по усмотрению». Так, в 1471 г. после присоединения Новгорода были казнены четверо новгородских бояр, в вину им вменялось желание увести свой город под власть Литвы. Между тем с юридической точки зрения этот приговор – нонсенс. Ведь указанное стремление осуждённые имели до присоединения к Москве, а тогда новгородцы обладали полным правом призывать к себе на княжение властителей из какой угодно земли. Более того, даже в договоре с Москвой 1471 г., делавшем московских князей государями Новгорода, смертная казнь за намерение отступить от них не была прописана. «Почему же наказаны были четыре новгородца… и именно смертною казнью? – задаётся вопросом Сергеевич. – Так нравилось великому князю, это дело его усмотрения»[98]. По той же самой логике Иван III в 1499 г. заключил в тюрьму двух псковских посадников, посмевших возражать ему в вопросе о назначении псковского князя. «Послы просили не назначать Пскову особого от Москвы князя. В чём тут московский государь усмотрел преступление? Единственно в смелости говорить против его распоряжения. Было ли каким-либо уставом запрещено возражать князю? Никаким. Наоборот, мы знаем, что тот же Иван Васильевич даже любил “встречу” [возражение]. А здесь возражение псковичей не понравилось ему, и он опалился. Это опять дело его усмотрения»[99].
Ярчайшим примером произвола московских самодержцев в отношении своих подданных являются знаменитые выводы — многотысячные переселения людей с места на место. Иван III, присоединяя Новгород, в январе 1478 г. дал ему жалованную грамоту о соблюдении ряда новгородских вольностей, где в первую очередь обещал не переселять новгородцев в другие земли и не покушаться на их собственность. Но менее чем через десять лет великий князь своё обещание нарушил. В 1487 г. из Новгорода было выведено более семи тысяч «житьих людей» (слой новгородской элиты между боярами и средними купцами). В 1489 г. произошёл новый вывод – на сей раз более тысячи бояр, «житьих людей» и «гостей» (верхушка купечества). Итого – более восьми тысяч, учитывая, что население Новгорода вряд ли превышало 30 тысяч, это огромная цифра, почти треть жителей. Обширные земли, конфискованные у новгородских бояр, были розданы в поместное владение двум тысячам человек из различных уездов Московского государства. В 1489 г. та же участь постигла Вятку: «воиводы великаго князя Вятку всю розвели», – сообщает летописец.
Василий III верно следовал по стопам отца. Из Пскова в 1510 г. он вывел более тысячи человек. Высший слой псковского купечества обновился полностью – в дома трёхсот псковских семей въехали триста московских. Из Смоленска, которому, как и Новгороду, была дана жалованная грамота с гарантией «розводу… никак не учинити», зимой 1514/1515 гг. вывели большую группу бояр, а через десять лет – немалое количество купцов (при этом примерно половина смоленской боярской верхушки эмигрировала в Литву[100]). Практиковались переселения и в других западнорусских землях (Вязьма, Торопец) – вяземским «князем и панам», кстати, тоже обещали «вывода» не делать. Уже к середине XVI в. там доминировали пришлые служилые роды. Как видим, московский суверен действительно распоряжается своими подданными и их имуществом как ему заблагорассудится, не связывая себя какими-либо устойчивыми правилами. Он не просто верховный правитель, он – верховный собственник.
Московские самодержцы целенаправленно обменивали родовые вотчины бывших удельных князей на вотчины в других уездах. Так, в 1463 г. «простились со всеми своими отчинами на век» ярославские князья и «подавали их великому князю… а князь велики против их отчины подавал им волости и сел». К середине XVI в. «почти полностью лишились своих родовых вотчин» ростовские князья, «большинство здешних [ростовских] землевладельцев принадлежали к пришлым родам… Зато за пределами родового гнезда ростовские князья имели многочисленные владения в самых разных уездах»[101]. Таким образом, провинциальная элита сознательно и систематически отрывалась властью от своих земель, стягивалась к центру и затем перебрасывалась с места на место. В этом-то и состоял основной смысл выводов: вырывалась с корнем именно местная верхушка, заменяемая московскими выходцами, напрямую зависящими от самодержца и не имеющими никаких связей с новым для него сообществом. А новгородцы, переселённые во Владимир, Муром, Нижний Новгород, Ростов; вятчане, направленные в Боровск, Алексин, Кременец, Дмитров; смоляне, выведенные в Ярославль, Можайск, Владимир, Медынь, Юрьев, тоже были там чужими.
При присоединении Твери (1485) обошлось без выводов; более того, само княжество со своим отдельным двором продолжало некоторое время существовать. Но уже в 1504 г. по завещанию Ивана III территория княжества оказалась разбита на четыре части, вошедшие в состав уделов великокняжеских сыновей, причём сама Тверь отошла во владение нового наследника – будущего Василия III. Тверской двор сохранялся, но тверские бояре, оказавшиеся в других уделах, туда уже не входили. «В результате была не только перекроена политическая карта Тверской “земли”, но и разрушена та основа, на которой зиждилось её историческое единство, – общая корпоративная организация тверских феодалов»[102]. В итоге подобная «политика Московского государства повела к уничтожению всех крупных областных делений. Прежние земли и области сохранили значение географического термина, но на практике потеряли всякое значение»[103].
Характерно, что места службы русской знати, как правило, находились вдалеке от её «малой родины». Те же тверские бояре сидят наместниками во Владимире, Пскове, Смоленске, Рязани, Костроме, Вологде… И вотчины они получают там же. Среди рязанских наместников первой половины XVI в. нет ни одного представителя местной знати. Судя по списку административных назначений членов Боярской думы 1547 г., ни один из них не был назначен в те земли, где у него были родовые владения. Из ста пожалований на «кормление» в середине XVI в. только в 9 случаях «дети боярские» (дворяне) получили их на территории своего уезда. Той же цели служили частые перемещения провинциальных администраторов с места на место. В Новгороде в 1500–1532 гг. сменилось 32 наместника, в Пскове в 1510–1540 гг. – 21, в Смоленске в 1540–1544 гг. – П[104]. «Постоянная смена лиц на гражданских должностях имела для центральной власти и плюсы, и минусы. Она означала, что очень немногие приобретали существенный опыт в выполнении конкретных функций, но также немногие приобретали чувство хоть какой-нибудь безопасности на каком-либо посту. Служилый человек всегда был орудием, лицом без собственных управленческих, политических или экономических оснований. Кроме того, любого человека можно было использовать как угодно и обращаться с ним как угодно, поскольку всегда существовало множество других людей такой же квалификации, желающих и готовых занять его пост… Это… было превосходным основанием для развития автократии, что заметно отличало ситуацию в России от ситуации в Западной Европе в то же самое время»[105].
Искусственно созданная слабость провинциальных элит облегчила верховной власти введение постоянных государственных налогов и повинностей на территории подавляющего большинства русских земель в конце XV – первых десятилетиях XVI в. «…На рубеже XV–XVI вв. податные привилегии феодалов в их традиционной форме были ликвидированы и государственная власть окончательно обеспечила себе поступление постоянных значительных доходов с частновладельческих земель, а также возможность их произвольного изменения в будущем»[106].
Русская аристократия (боярство) не имела по отношению к великим князьям никаких зафиксированных прав. Даже право отъезда к другому сюзерену, как мы видели, со второй половины XV в. фактически не действовало. Упомянутые выше крестоцеловальные записи бояр ликвидировали «последние проблески идеи свободного отъезда… Записи эти только и понятны на фоне представления об общем закреплении боярства на великокняжеской службе, с которым в противоречии стояли попытки новых пришлых магнатов [Холмский был тверским князем, другие бояре, с которых брали записи, также недавно перешли на московскую службу] считать себя, по старине, вольными слугами»[107]. Сама по себе родовитость ещё не обеспечивала боярам высокого социального статуса, который повышался только благодаря государевой службе: «…Родословный человек мог “захудать” при личнослужебных и материальных неудачах, и неродословный мог пробиться наверх… “Породой государь не жалует”, но мимо государева пожалования “породе” грозит захудание, а сила его может создать новую “породу”»[108].
Боярская дума при великом князе не ограничивала его власть. Во всяком случае, мы не имеем никаких свидетельств об этом (да, собственно говоря, никаких документов о работе Думы вообще не сохранилось). Судя по всему, была она до второй трети XVI в. весьма немногочисленна (10–12 человек), и лишь в годы малолетства Ивана IV значение её возросло, до того же она скорее была «кружком советников с неопределёнными полномочиями»[109]
О проекте
О подписке