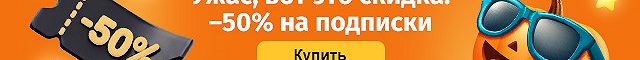
4
Ева сидела в темноте каюты, прислушиваясь к звукам снаружи, и её била мелкая дрожь. Она помнила о наставлениях Хардова не включать масляный светильник, пока лодка не войдёт в канал, да она и не собиралась ослушаться гида, только с каждой секундой ей становилось всё хуже. И девушка с трудом сдерживала себя, чтобы не закричать:
– Немедленно поворачивайте обратно! Нельзя сейчас быть на воде!
Ева всё помнила о страхе и плохих эмоциях, которые делают их уязвимыми, как сигнальный маячок, открывают тем, кому не следует, – она помнила слова Хардова. В общем, она, наверное, разделяла подобную точку зрения и пыталась сейчас дышать, как учил её гид. Да только это не особо помогало. Ведь вопрос не в дыхательной гимнастике и, по большому счёту, даже не в том, что ей сейчас стоит успокоиться. Ведь так? Неужели они не понимают, что там, снаружи, всё теперь переменилось?! Всё стало намного хуже, чем когда они только направлялись к памятнику. То, о чём она говорила, чьё приближение чувствовалось с каждым их шагом, теперь пришло. И оно там везде.
Ева не знала, что это, хищное, алчущее, пока ещё слепое, но оно ищет их. И найдёт очень скоро. Надо немедленно возвращаться на берег, на свою сторону, если ещё не поздно. Возвращаться, потому что… Там, на воде, что-то очень скверное, и с каждым мгновением становится только хуже. Даже здесь, во тьме каюты, чьё-то пока ещё бесплотное щупальце холодным ветерком коснулось её лица (или сердца?), и вслед за ним всю лодку за пределами её убогого убежища залила ослепительная вспышка света. Только было в этом ярком свечении что-то неживое, чуждое. «Это плохой свет, – успела подумать Ева. – Он ищет нас. Но не только…»
5
«Вот и мальчишка увидел то, что я вижу уже некоторое время», – мелькнуло в голове у Хардова. В этой мысли было что-то ледяное, какой-то холодный металл, эмоция, которая требовала, наверное, спокойного преодоления и которой Хардов вряд ли станет когда-нибудь гордиться. Но в сложившихся обстоятельствах у гида не осталось времени для анализа эмоций. Челюсти его плотно сомкнулись, и взгляд всё ещё оставался прикован к тому, что творилось с прожекторами. Они больше не хотели освещать самое крупное в мире скульптурное изображение Ленина, словно чья-то немыслимая воля внесла разлад в исправно работающий механизм. «А может быть, эта воля и заставила нас установить здесь прожекторы для своих целей», – безмолвно усмехнулся Хардов, извлекая из-под плаща свой ВСК с уже прикреплённым цилиндром глушителя.
– Что бы ни случилось, капитан, не прекращайте грести, – голос гида прозвучал хрипло. Он обернулся – до входа в канал оставалось не меньше двухсот пятидесяти метров. – Пока мы не пройдём ворота, не прекращайте грести. Там мы будем в безопасности.
Если некоторое время назад лучи света начали колыхаться, как будто где-то в мире существовал ветер, способный их раскачивать, то потом один из них отклонился от статуи и бесцельно устремился куда-то в тёмное небо. Потом к нему присоединились остальные, то перекрещиваясь в пустом пространстве, то столь же бессмысленно скользя по лесу, берегу и тёмной воде. Вот один из них поймал лодку, на миг ослепив всех, кто в ней находился, к нему присоединился другой, и Хардову пришло на ум, что они, как гончие псы, принюхиваются, но подлинная их цель вовсе не здесь. И вот та же невидимая рука стала разворачивать прожекторы и фокусировать их на противоположном берегу дамбы, где над пустующим прежде основанием творилось теперь много чего интересного.
«А тебе нужен свет, – несколько отстранённо подумал Хардов. – Там, в своей тьме ты без света не сможешь». Его рука передёрнула затвор, досылая патрон, а затем гид услышал, как заскрипели его собственные зубы. Там, на другой стороне, творилось и правда много интересного. Создавалось впечатление, что клочья мглы несколько проредились, словно туман теперь отодвинулся от каменного основания бывшего памятника, расползался в стороны, уступая место чему-то другому. Эти всё более набухающие в разных местах сгустки чёрного глянца, которые Хардов заприметил ещё до посадки в лодку, сейчас прорвались, и в переливах бледного скользящего света проступили, а затем скрылись очертания чего-то огромного и бесформенного.
«Ну, вот и началось», – эта мысль накатила на Хардова вместе с волной какой-то прелой усталости. Пространство вокруг них словно сгустилось.
– Быстрее, капитан, – проговорил гид, прижимая приклад наизготовку, чтобы вести огонь. – Ради всего святого, быстрее!
Его слова, казалось, застревали в неподвижном, липком, как кисель, воздухе. И следом это ощущение невидимой злой воли стало нарастать, и что-то попыталось заставить Хардова опустить вскинутое было оружие. Гид не стал ждать, пока это нечто войдёт в полную силу. Вся лодка была перед ним сейчас как на ладони. И время словно замедлилось, позволяя Хардову окинуть взглядом всё, что было перед ним.
Он видел, что гребцы начали ослаблять ритм и лодка теряет скорость, что человек на корме вот-вот бросит руль, потому что смотрит, как завороженный, на противоположный берег, и в его маслянистом взгляде ужас смешался с чем-то похожим на священный трепет; он слышал голос Кальяна, капитана, которого уже успел похвалить: «Фёдор, быстро на руль! С бородачом что-то не то… И держи крепко, парень!» Набирая дыхание, он успел заметить, что мальчишка и впрямь оказался проворным и держится не в пример лучше остальных. Это его не удивило, лишь лёгкая печаль кольнула сердце. Прицелившись, чтобы бить по первому прожектору, Хардов понял, что увидел ещё кое-что: как на другом берегу прямо из тела ночи выступил исполинский каменный бок, как в некоторых местах камень ещё не сделался непроницаемым, и гигантская статуя словно парила над формирующимся пьедесталом. Там, на противоположном берегу, вопреки всем мыслимым прежде законам жизни, в перекрестье электрических лучей появлялся Второй.
– Он вышел прямо из темноты, – с несколько шальной усмешкой процедил Хардов.
Это было давнее воспоминание. Впервые о своей встрече со Вторым ему рассказывал человек, чьё сознание помутилось от увиденного. Он так и визжал, пока Тихон пытался бедолаге помочь: «Он вышел прямо из темноты! Огромный, каменный, но… живой! Жи-и-во-ой!» А Хардов почему-то вместо жалости испытывал что-то похожее на брезгливость. Да, это было давно…
А потом гид задержал дыхание, и весь внешний мир перестал существовать. Кроме оружия и цели, куда он сейчас пошлёт пулю. Хардов нажал на спусковой крючок. С глухим хлопком, чуть более громким, чем звук выстрела, лопнул первый прожектор. И словно в ответ в плотной стене тумана, стоявшего на том берегу, гневно полыхнуло чем-то холодным, похожим на зарницы. Только это никакие не зарницы. У Хардова дёрнулась щека. Оружие уже было готово к следующему выстрелу. Эта чёрная воля, сковывающая всех, кто был в лодке, чуть ослабила хватку. Гид выстрелил. Второй фонарь прожектора разлетелся вдребезги. Оставался последний: теперь до другого берега добивал лишь одинокий луч. Дышать стало значительно легче. Хардов прислушался и ощутил, как по лбу пробежали капельки пота. Это его озадачило – напряжение оказалось бо́льшим, чем чувствовалось.
«Давайте, давайте, гребите, мои хорошие! – быстро подумал он. – Нам бы только успеть войти в канал». Хардов посмотрел на последний луч, связывавший оба берега, и он показался ему натянутым, как струна. И что-то ещё… Звук, низкий и тихий, на грани слуха, похожий на треск статического электричества или гул электропроводов. Хардов снова прислушался, но ничего больше различить не смог. А потом выстрелил ещё раз. И на несколько секунд единственным источником света вокруг них стала бледно-зелёная луна, плывущая в тревожном небе.
* * *
Фёдор почувствовал, что руль больше не вырывался из его рук: потребовалось совсем лёгкое усилие, чтобы вернуть лодку на прежний курс. О том, куда могло затянуть лодку,
(ты же знаешь, куда! В туман, из которого нет выхода)
не хотелось даже думать. Сердцебиение постепенно приходило в норму, по крайней мере, в груди юноши больше так бешено не стучало. Хардов только что произвёл выстрел, и последний луч за спиной Фёдора погас. «Второй» исчез, на его месте теперь зиял громадный, похожий на провал, бесформенный сгусток тьмы. И обруч, сдавливающий виски, ослаб.
(в туман, из которого нет…)
Фёдор крепче взялся за руль. И даже попробовал робко улыбнуться Кальяну. Капитан сидел лицом к нему и с молчаливой сосредоточенностью работал веслом. Мучительная складка, прочертившая лоб здоровяка, ещё не разгладилась.
Фёдор посмотрел на Хардова: гид по-прежнему стоял у мачты и к чему-то тревожно прислушивался. Мунир, взлетевший было, пока гид стрелял, вернулся на плечо хозяина. Сейчас ворон застыл и, забавно склонив голову, глядел на чужой берег. Фёдор глубоко вздохнул: он, наверное, с удовольствием бы посмеялся, только… Это ощущение плохого вовсе не ушло. Оно словно затаилось, притихло в темноте и теперь раздумывает.
Вот и Фёдор услышал этот низкий и какой-то пустотный звук. Мунир заволновался, расправляя крылья. И вдруг юноша отчётливо понял, что это ещё не всё, лишь короткая передышка. Там, за его спиной, где только что погасли прожекторы, снова что-то происходило. Это он почувствовал, когда мороз иголочками побежал от основания его позвоночника вверх, это увидел в отсветах взгляда Кальяна, когда тот надтреснуто прошептал:
– Не может быть… Они светятся!
А потом здоровяк не смог скрыть ноток паники, прокравшихся в его голос:
– Хардов, прожекторы снова светятся.
6
Павел Прокофьевич Щедрин видел, как лодка мирно удалялась по спокойной поверхности водохранилища в сторону входа в канал. По широкой водной глади в серебре весело переливалась лунная дорожка, а яркие фонари освещали мощными лучами памятник Ленину, о котором столько любили посудачить в городских трактирах. Напряжение, которое чувствовалось, пока они добирались сюда, с отходом лодки развеялось почти окончательно. Павлу Прокофьевичу даже показалось, что его лицо обдало лёгким ветерком. И он подумал, что, наверное, зря они беспокоились и всё с Евой будет хорошо. Поэтому старый учёный был искренне изумлён, когда Хардов исполнил своё обещание и расстрелял прожекторы.
– Бог мой, ну зачем это? – промолвил Щедрин.
В какой-то момент ему показалось, будто он различил что-то на том месте, где когда-то находился второй памятник, но именно что показалось: всё было мирно, спокойно. И совсем скоро он пойдёт домой и заварит травяного чаю, что так любили они с Евой за час до сна. Возьмёт почитать старую книгу и лишь потом ощутит, как осиротел его дом.
– Я её спасаю, – теперь уже с уверенностью прошептал Щедрин.
И, конечно, старый учёный не видел того, что творилось сейчас с уже мёртвыми прожекторами. Того, что видела его дочь и все, кто находился в лодке.
7
Если бы Хардов вошёл сейчас в носовую каюту, он бы, наверное, решил, что страх вызвал у гостьи его судна временное нервное расстройство. Хотя его вполне могла осенить и более тёмная догадка. Обняв себя руками, девушка сидела на койке с закрытыми глазами, но лицо её было повёрнуто к узкому разрезу иллюминатора.
– Я прошу тебя, прошу, спаси нас, – шептала Ева, – защити от него и останься жив. Я отдам тебе часть своей любви, я смогу, но останься жив.
Однако Хардов стоял у мачты, и взгляд его был прикован к самому большому в миру скульптурному изображению Ленина. Памятник оказался не только самым большим. О нет, всё не так просто. Впервые за очень много лет Хардов выглядел обескураженным. Правда, оценить этого было некому. Но не в том дело, ведь так? Есть вещи более любопытные. Например, когда только что разнесённые вами в пух и прах фонари оживают. Губы Хардова неожиданно высохли, и их пришлось облизать. От расстрелянных прожекторов исходило явное бледно-зелёное свечение, пока ещё тусклое, похожее на болотные огни. Этот низкий пустотный звук, навевающий мысли о странных опытах с электричеством, повторился, но уже громче.
– Забавно, – прошептал Хардов.
Свечение не просто усилилось. Только что прямо на глазах гида из разбитых прожекторов вырвались первые лучи, не длиннее десятка метров. Слепо обшаривая пространство вокруг себя, они иногда скрещивались, что делало их похожими на световые мечи в руках невидимых сражающихся великанов. Мертвенное тусклое свечение набирало силу, лучи уплотнялись, а потом выстроились параллельно друг дружке, как будто встали наизготовку. И вот в небо ударили мощные столбы бледно-зелёного света. Лицо Хардова застыло. «Это мёртвый свет», – пронеслась в его мозгу какая-то чужая мысль.
Лучи начали опускаться, кружа с каким-то игривым любопытством, словно их интересовала и пустота ночного неба, и далёкая линия горизонта на чужом берегу. «Там нет линии горизонта, – сказал мысленно Хардов. – И когда взойдёт солнце, на том берегу будет стоять лишь туман. – Гид с трудом подавил отчаянный, шальной смешок. – В этом мире посредником между землёй и небом является стена густого тумана».
Хардов быстро обернулся – до спасительных ворот оставалось не больше сотни метров. Но лучи уже бежали по каменным ступеням на дальнем берегу дамбы, по которым когда-то поднимались древние строители канала к своему грозному идолу, неся ему всю свою безмерную любовь, преданность и весь свой страх. Лучи переместились выше и поймали в перекрестье черноту зияющего провала над пьедесталом. Хардову снова пришлось облизать губы: картинка качнулась, дрожа, будто с тем же пустотно-электрическим звуком она обжигалась о края привычной реальности. А затем мёртвый свет выхватил из тьмы очертания исполинской статуи.
– Навались, парни! – закричал гид. Теперь необходимость соблюдать режим тишины отпала сама собой. – Гребите что есть сил!
«На голограмму – вот на что это было похоже, – вспомнил Хардов. – На чудовищную голограмму, нарисованную прямо в небе. Только ты знаешь, что это не так».
Монолитная громада памятника, охваченная бледно-зелёным светом, повисла в черноте неба, раскалывая пространство. Присутствие злой воли, всегда ощутимое в этом месте, сейчас сделалось неодолимым. Хардов подумал, что этот низкий пустотный звук становится объёмней, наполняясь глубиной и силой; только звук не был просто странным, плохим – присутствовало в нём что-то невыразимо иное, словно он нащупывал внутри каждого камертон ужаса и прекрасно резонировал с ним. Гид видел, что лодку вот-вот затопит неконтролируемая животная паника. А потом Хардов услышал хлопанье крыльев: Мунир взлетел – и гид понял, что может прикусить губу до крови. «Второй… Вы не должны оказаться на линии его взгляда, – услышал на мгновение Хардов голос Тихона, – иначе всё самое скверное и мерзкое на канале будет знать о вас. Если вы, конечно, выживете». Только это было старое воспоминание, когда он учил их, ещё совсем желторотых юнцов.
– Нет, Мунир, я запрещаю тебе! – хрипло закричал гид, прекрасно понимая, что ворон никогда бы не ослушался его и что сейчас Мунир действовал, повинуясь подлинному, хоть и невысказанному приказу Хардова.
О проекте
О подписке
Другие проекты