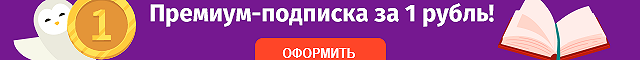
Чувство движения
Что же представляет собой чувство (или чувства) движения? Этот, по всей видимости, прямой вопрос, касающийся самого чувства движения, но не его восприятия, подрывает общепринятый способ рассуждения о чувствах. Не следует ожидать простого ответа на этот вопрос или однозначного определения чувства движения. Современные физиологи и психологи считают, что это чувство зависит от того действия, которое производят нервные окончания в мышцах, суставах, кожи, сухожилиях и других тканях в сочетании с той работой, которую осуществляют внутреннее ухо и другие чувства. Это сенсорная нервная функция, активируемая реальным движением тела. Как и в случае других чувств, существующее состояние нервной системы и деятельность таких психологических функций, как память, внимание и предчувствие, формируют то, что ощущается нами в реальности. В XIX веке многие ученые считали, что двигательные процессы, управляемые из единого центра, также в какой-то мере вносят свой вклад в чувство движения, и современные авторы так или иначе возрождают эти взгляды. Такие рассуждения о централизации данных процессов связывали науку об осознании собственного движения с чрезвычайно непростой темой человеческой воли и способствовали созданию образа индивида как деятеля, самостоятельно инициирующего движение. Но даже для современного ученого, не поддерживающего идею такой широкой трактовки чувства движения, чувство это представляется очень сложным. Эта сложность сохраняется, поскольку наряду с осознанием человеком своего движения, позы и расположения частей тела, а также общим не вполне определенным ощущением всего тела существует весьма важная область неосознанного управления позой и движением, зависящего от сенсорного воздействия периферийных нервных окончаний, реагирующих на движение. Это сфера функционирования проприоцепции.
Нужно сказать, что слова «кинестезия» и «проприоцепция» трактуются современными учеными неоднозначно, хотя некоторые авторы пишут так, будто эти термины очевидны или, по крайней мере, должны быть таковыми. Я подразумеваю под термином кинестезия сознательное восприятие человеком собственного движения, а под проприоцепцией – сенсорную нервную систему, в значительной степени – хотя и необязательно – функционирующую без такого сознательного восприятия, ключевого для координации движения и позы[5]. История данного термина приводится ниже.
Современный словарь предлагает следующее определение кинестезии: «Способность осознавать положение и движение частей тела с помощью сенсорных нервов (проприоцепторов) в мышцах, суставах и т. д.; чувство, вызывающее такое осознание» (Shorter OED, 2007, p. 1505). Это определение демонстрирует, что обыденный язык удивительным образом соединяет кинестезию как с сознанием, так и с телом. В одном предложении мы встречаем слова «способность», «осознание», «положение и движение», «сенсорные нервы», «мышцы и суставы» и «чувство». Включение в исследование этих двух планов было характерной приметой более ранних работ, посвященных чувству движения. Ни тогда, ни сейчас нельзя это объяснить непоследовательностью или недомыслием. Скорее всего, обыденный язык точно передает живые процессы – процессы, которые становятся мертвыми абстракциями, если их рассматривать только в ментальной или только в физической сфере.
Есть еще один аспект. Бессознательная информация, получаемая от движения глазных яблок, от вестибулярного аппарата внутреннего уха и, вероятно, также от тканей тела, играет большую роль в зрительном чувстве. И это, в свою очередь, включает восприятие движения других объектов – объектов, расположенных на расстоянии, – в наше чувство движения. Результат всего этого, следующий из осознанного понимания движения, особенно когда оно, активизированное или самопроизвольное, приводит к прикосновению или когда прикосновение дает информацию другим чувствам, в настоящее время часто именуется гаптическим восприятием, или гаптическим чувством. Такое восприятие, согласно современной терминологии, «воплощено» (то есть «становится присущим плоти»; англ. embodied) – оно подразумевает вовлеченность всего тела[6]. Зрительное восприятие включает не только воздействие света на сетчатку глаз, но и возможности, основанные на физическом наличии глаз в человеческом теле.
Неслучайно современные исследователи уделяют особое внимание «воплощенным» реалиям психической жизни во всех проявлениях. Процветает изучение культуры – точно так же, как и в естественных науках, – воплощенного познания, эмоций и чувств. Таков контекст исключительного интереса к осязанию – пожалуй, самого «воплощенного» из всех чувств. Нередко кажется, что авторы не сомневаются в новизне избранной темы. Однако, как я хочу показать в этой книге, интерес к осязанию и, в частности, к ощущаемому движению как осязательной модальности на самом деле имеет долгую и знаменательную историю. Не думаю, что осязание не учитывалось или игнорировалось до того, как современные исследователи пришли к пониманию его первостепенного значения. В самом деле, несмотря на то, что книга Пабло Моретта называется «Забытое чувство», автор начинает свои рассуждения со следующего замечания: «Но осязание никогда не было по-настоящему забыто. И это не одно чувство: их много. <…> Оно вездесуще, как само чувство жизни» (Maurette, 2018, p. ix – x).
Попытки описать чувство движения подрывают саму идею описания чувств и их количества. Задача, казалось бы, вполне очевидная, однако оказывается, что это далеко не так. Принято считать, что существует пять чувств – осязание, обоняние, вкус, зрение и слух. В то же время никто не возражает и уж точно не видит никакого противоречия, если мы говорим о чувстве интуиции, чувстве удовольствия или боли, чувстве тела, чувстве страха или восхищения, об экстрасенсорном восприятии и других чувствах. Таким образом, наша история начинается с краткого экскурса, посвященного чувствам вообще. И это создает фон для понимания того, чем отличается чувство движения от чувства осязания. Впрочем, некоторые современные авторы продолжают настаивать на их тесной связи. Рэтклифф, к примеру, рассматривает чувство движения как неотъемлемую часть осязания: «Тактильное восприятие без проприоцепции и кинестезии <…> было бы настолько обедненным, что имело бы отдаленное отношение к феноменологии и различительной способности, которую мы ассоциируем с осязанием» (Ratcliffe, 2012, p. 425)[7]. Можно прийти к выводу, что для определенных целей полезно рассматривать осязание и чувство движения вместе, а иногда полезно их различать. Живая реальность, как настойчиво утверждает Максин Шитс-Джонстон, состоит в том, что мы всегда что-то осязаем посредством движения (Sheets-Johnstone, 2012, p. 193).
Все виды мыслительной деятельности, естественно включающие сенсорную деятельность, имеют «конкомитантов» (сопутствующие обстоятельства) в области нервной системы или, как сказали бы большинство представителей естественных наук, на ней основываются. Термин «конкомитант», употребляемый в научной литературе второй половины XIX века, является относительно нейтральным для описания отношений между сознанием и телом или между сферой осознаваемого и сферой нейронных процессов[8]. Закономерности и философия этих отношений не являются предметом настоящего исследования. Это имеет значение, когда изучение чувств и сенсорного восприятия постоянно сталкивается с проблемой сознания и тела и когда приходится искать конструктивные связи между психологией и физиологией. Неслучайно многие ученые считают, что исследования в области сенсорного восприятия могут существенно помочь в понимании отношений между сознанием и мозгом. Следовательно, есть все основания изучать увлекательную историю доводов, утверждающих, что само по себе чувство движения в определенном смысле преодолевает то, что является надуманным или абстрактным – разделение сознания и тела. А это уже часть более широкой темы: чувство движения дает возможность понять совместимость и связанность этих двух сфер в онтологии наблюдающего субъекта.
Конкомитанты нервной системы в чувстве движения представляют собой чрезвычайно сложное явление. Последующие главы довольно детально описывают историю их изучения вплоть до начала ХХ века, когда были заложены основы современных исследований в данной области.
В XIX веке ученые чаще всего называли чувство движения «мышечным чувством» (англ. muscular sense, muscular feeling), но этот термин вскоре вышел из употребления, поскольку был слишком расплывчат и неточен. Сегодня исследования продолжаются, и в настоящее время существует очень обширная и динамично развивающаяся область изучения двигательной системы. Аппарат управления движением включает, как минимум, сложнейшую систему внутреннего уха, мышцы, отвечающие за движение глаз, сенсорные рецепторы в мышцах, суставах, сухожилиях и коже, наряду с целой сетью нейронных связей, существующих между органами и мозгом, а также внутри мозга, между мозгом и мышцами и далее органами движения. Управление позой и движением предполагает «нервный цикл» от мозга к мышцам и от мышц или суставов к мозгу[9]. К 1900 году стало понятно, что окончания чувствительного нерва регистрируют сокращение или напряжение в мышцах и движение в суставах или коже и вызывают нервные импульсы. Эти импульсы, определяемые как часть системы проприоцепции, в большинстве своем бессознательны, они играют важную роль в автоматическом регулировании позы и движения. Когда же эти импульсы воспринимаются как часть осознанного восприятия движения и положения тела, мы имеем дело с кинестезией. Все это рассматривается в единстве (что, по крайней мере, отчасти объясняет, почему разные авторы используют одни и те же термины, делая акцент на разных аспектах)[10].
Цель и метод создания интеллектуальной истории
Этот раздел поясняет, как и почему я пишу интеллектуальную историю. Возможно, он покажется несколько «академичным» и читатель, пролистнув страницы, перейдет к собственно истории. Но история эта, как, впрочем, и любая другая, никогда не излагается как предмет.
Предметом является претензия на знание, сформулированное в идеях об ощущаемом движении. Этот предмет гораздо большей важности и охвата, чем поначалу может показаться. Чувство движения сформировало субъективность и связало ее с переживаемой активностью и уверенностью индивида в участии в жизни мира. Оно заняло важное место в том, что называется реальностью. И совсем не так уж очевидно, как писать работу на столь обширную тему.
Когда более 80 лет назад А. О. Лавджой говорил о «великой цепи бытия», у него была ясная цель – передать знания о формировании и влиянии определенного набора связанных между собой идей западной цивилизации. В центре его истории было то, что он называл «принципом изобилия», идея неизбежно безграничной благости Творца, идея, развитие которой он прослеживал от древних греков до романтизма конца XVIII века (Lovejoy, 2001). Его труд был вдохновенным, хотя в то же время мудреным и, по сути дела, несостоятельным, как я считаю вслед за многими другими исследователями, когда речь заходит об идеях как сущностях, связующих столетия. Акцент исторических разысканий переместился в сторону освоения контекстуальной теории значения и, соответственно, сконцентрировался на специфике места и времени. Сама мысль об определении «унитарных» идей и об использовании их в качестве исторических субъектов оказалась проблематичной. Были и другие предложения. Например, привнести элементы формальной методологии в историческое изучение познания и философии. Однако возможность формализации истории познания вызывает скептицизм, как вызывает скептицизм и существование формальных и трансисторических условий, разделяющих научное и ненаучное знание[11]. Вследствие этого как историк познания я пишу свободно – так, как мне представляется подходящим для данного конкретного случая. Ясности требует задача, а не формальная методология.
Для соответствующего жанра, по-видимому, не существует иного определения, кроме как «интеллектуальная история». Это история того, что говорили о чувстве движения люди, которые, как им казалось, наилучшим образом систематизировали свои идеи. Поэтому появление жанра исторического изложения, в котором содержанием является познание, «теория», или, точнее, философское размышление и анализ, становится неизбежным. Разговоры о познании всегда в первую очередь связаны с рассмотрением того, что, собственно, составляет знание. Размышление и анализ необходимы для осмысления значений, которые имелись у понятий, описаний и объяснений, а также для понимания совершенной работы. В этом смысле данная история – это философское предприятие.
Я поддерживаю две идеи интеллектуальной истории, хорошо разработанные ранее. Первая – считать познание предметом истории. Такое решение ни в коей мере не умаляет важности истории, фокусирующей внимание на материальных практиках, социокультурной жизни или основах управления, однако оно подчеркивает значимость познания и веру в сотворение мира.
И вторая – писать историю с широким охватом, историю, в которой существуют связи, проходящие сквозь времена, сквозь дискурсивные и практические области, в противовес тем историческим работам, которые с большей очевидностью демонстрируют узкопрофессиональный подход с его склонностью к деталям. Исследования интеллектуальной истории могут быть специализированными и узкими или же широкими и выявляющими связи или «открытые поля», по выражению Джиллиан Бир (Beer, 1996). Все зависит от цели. Для разных целей существуют различные формы познания. Чувство движения, как будет показано, напоминает слона в посудной лавке специализированных научных областей. Слону требуется простор.
История проходит через несколько видов знания, соединяя области исследования, которые обычно существуют отдельно, в зависимости от интересов ученых и научных дисциплин. Используя современную терминологию, можно сказать, что история междисциплинарна. Сразу же необходимо добавить, что слово «дисциплина» имеет два значения – одно, связанное с интеллектом и нравственностью, и противоположное ему, институциональное. Это последнее предполагает изучение множества, на первый взгляд, самых разных явлений, либо углубленный анализ чего-то одного (однако, если обратиться к метафоре Исайи Берлина, речь в данном случае идет скорее о «лисе», чем о «еже») (Берлин, 2001).
О проекте
О подписке