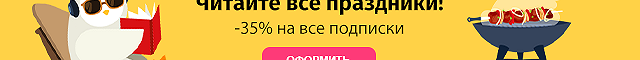
Соломенные волки
Это был проклятый всеми богами год. Если синоптики обещали местами осадки, то центром всех небесных пакостей был наш район.
– Да – а, постарел наш главный «синоптик» – шутили механизаторы, прикуривая от углей зерносушилки, и поглядывая без единого просвета небо. – Пора бы его на пенсию! Да не кем заменить!?
– А вот, Репья. Он еще может! Ой, как может! – прыснул молодой тракторист, в промасленной и промокшей телогрейке.
– Брось зубоскалить. Щенок! Это ты виноват! Согрешил, небось? – под общий хохот отвечал он. – Говорят, все лето трактор в летний лагерь к дояркам гонял. К Марине, наверное? – И довольный своей шуткой он еще долго смеялся, вместе со всеми, прокуренным и простуженным голосом, словно стартер председательского газика.
Дед Мурзин, или Репей, как его еще называли односельчане, за его вездесущность и прилипчивость, давно уже был на пенсии, но с малых лет привыкший работать, бездельничать не мог. И сколько хватало сил, помогал родному колхозу, в котором проработал почти всю свою жизнь, минус пять лет войны и девять лет детства. За отсутствием здоровья и особой прыти, он был вторым пожарным и присматривал за лошадьми. Их там было четверо: одна пожарная, две другие сельсоветская и зоотехника, и четвертый – предовский – председателя колхоза «Светлый путь», поджарый жеребец по кличке Малыш. Пожарка и Ток были рядом. И Мурзину, как бы по – совместительству, просили присматривать за амбарами. Народ-то еще «ой – ёй», всякое может случиться.
Невыносимо трудно быть директором, когда тебе всего лишь двадцать три года. Особенно директором Сельского дома культуры с протекающей крышей. Без угля и дров с вечно пьяным кочегаром. Когда сидишь на дебете и кредите Сельсовета. Который как – бы, между прочим, заставляет: собирать сведения о численности скота и птиц у населения, ежемесячно ездить в районный банк за зарплатой для сельской интеллигенции, заготовлять дрова и грузить на станции уголь. И даже распрягать Сельсоветскую лошадь, после прогулки председателя Вафина, (с семиклассным образованием, против твоего незаконченного высшего!), по деревням. И попробуй, откажись. В конце месяца обязательно недосчитаешься нескольких рублей с зарплаты. Бухгалтер сельсовета Тамара, женщина, рано овдовевшая и поэтому очень злая, с молчаливого согласия Вафина. обязательно срежет, как не вышедшему на работу. Им глубоко наплевать на твою культпросветработу. Лишь бы по-ихнему было. Как же, они Власть! Им также трижды наплевать, что люди шарахаются от клуба. Да и небезопасно, может во время демонстрации фильма обвалиться потолок. Гостям радуются дважды: после приезда и после отъезда! Мы же лишены обеих радостей ввиду отсутствия дорог, как летом, так и зимой. Особенно трудно приходилось молодым учителям, проходившим обязательную практику в средней школе. Уже вкусившие сладость городской жизни. В школе зафиксирован единственный случай отработки молодым специалистом более трех лет. И только потому, что жалко стало учительнице русского языка и литературы, и классному руководителю выпускного класса, бросать на произвол судьбы десятый класс, который души в ней не чаял. И она решила остаться еще на год. О духовной пище говорить не будем. В рационе только кино, если привезут, и местная «самодеятельность». И поэтому сельская молодежь, унюхав беззаботность городской жизни, не желает возвращаться. Я же вернулся из завода, пожертвовав всем, хорошей работой, друзьями и, наконец, зарплатой. И только ради того, чтобы хоть что нибудь изменить в этой деревне, где прошла все мое детство. У нас на заводе частенько наблюдалось такое явление. Если задерживали зарплату или обмен спецодежды, некоторые рабочие проявляли молчаливое недовольство администрацией цеха, путем переворачивания Урн с мусором и битьем лампочек в душевой. Тоже самое, я наблюдал и здесь в клубе, каждый день, вворачивая лампочки над входом. Но сделать ничего не мог. Да собственно уже и не хотел.
И поэтому вечерами частенько подумывал об упаковке чемоданов. Но утром опять откладывал, надеясь на изменения и не только в погоде. И все начиналось сначала. С утра, разговор на высоких тонах с Вафином, по поводу ремонта и выделения средств, целый день и весь следующий день в райцентре в поисках кровельного железа. Потом возвращение домой ежеминутным толканием грузовика и подкладыванием хвороста по буксующие колеса по пояс в грязи. А вечером репетиция драмкружка. И так каждый день. Единственным утешением в моей жизни были книги: «Труд, – писал Маркс, – единственная необходимость каждого человека, а ненавистным он становиться в условиях жестокой эксплуатации». Меня ни кто не эксплуатировал, но для меня не только труд, но жизнь здесь осточертела, да так, что не находил себе места. Как известно на голом энтузиазме ничего не построишь? Поэтому все замыкалось на средства, фигурирующие в течений года в сметах бухгалтерии сельсовета, и в конце списываемые как нереализованные. А деньги не малые, между прочем, выделенные из бюджета колхоза, и утвержденные уважаемой комиссией – хватило бы и на ремонт и на приобретение музыкальных инструментов – воплощение мечты методиста Ульфата Шангараева, который, спал и во сне видел себя солистом и руководителем первого колхозного «ВИА».
По календарю наступила осень. Дождь лил не переставая. В поле низко кланялись к земле несжатые колосья пшеницы, а в валках прорастала рожь. Всякие попытки механизаторов выехать в поле завершались неудачами. Из-за отсутствия дорог в самой деревне комбайны садились на пузо и их разрывали тракторами на запчасти. Клуб как мог, помогал колхозу. В перерывах между разрядами дождя выезжали агитбригадами на поля и элеваторы.
Вскоре пошел снег. И все вокруг покрыло белым покрывалом. И лишь несжатые колосья пшеницы, словно капризные дети перед сном, то и дело высовывали свои рыжие головки из под белого одеяла. Напоминая о себе отцам хлеборобам, об их беспомощности перед силами природы и собственной неорганизованностью. Смакуя, не спеша падали снежинки как бы наслаждаясь этим, не торопясь захоронить под собой плоды крестьянского труда. Зрелище было не из приятных. При виде всего этого на глаза наворачивались слезы. По инициативе комсомольцев решили сделать субботник. И почти всем колхозом, по снегу, скосили и сложили колосья пшеницы в небольшие копна, чтобы потом вывезти и хотя бы скоту скормить. Но вывезли только половину, а другую замело снегом. Издали поле было похоже на колонию мышиных нор. Которые тоже развелись тысячами на дармовом зерне. Червь тоски, забравшись в мой организм, подтачивал его изнутри. Надо было что-то делать. Как-то изменить эту опостылую жизнь. Уехать – значит сдаться. Признаться в собственном бессилии я не мог. И я ждал чего-то сверхъестественного, которое неминуемо должно было произойти. Людям свойственно в минуты душевного расстройства отвлекаться воспоминаниями, о чем ни будь приятном. Я всегда удивлялся и завидовал выдержке и умению моего методиста Ульфата, отвлекаться и перенастраиваться на приятную волну. Иной раз, когда надо было почистить под домашней скотиной, а это занятие не из очень приятных, особенно весной, когда все тает и жутко воняет! И вот в паузах между рейсами санок туда и обратно. Он среди разворошенного навоза и смрада, обалдело, закрыв глаза и широко расставив ноги на импровизированной сцене, выщипывал невидимые струны, превращая, заляпанные навозом вилы, в электрогитару. Подпевал про себя знакомые мелодии. И снова брался за работу и с таким задором и энергией, как будто и не было тех полдня махания вилами и целой горы уже вывезенного за огород навоза. Когда первыми заморозками Ульфата проводили в армию, мне стало совсем скучно. Кстати, говорят, он в последний вечер крушил клубный забор! Зачем спрашивается? Потом в письме, конечно же, признался: «Проявил недовольство местной властью». Тоже мне Степан Разин. Из-за него, бунтаря, мне самому пришлось прибивать эти проклятые доски обратно. Оставшись один, я был похож на парусник, попавший в зону безверия. Не знал, что делать и чем заняться. Пробовал считать капли монотонно падающие с потолка директорского кабинета, в подставленную уборщицей посуду – надоело на четыреста восемьдесят четвертой капле. И поэтому я уходил в мир фантастики, которую знал и любил с детства. В то памятное утро, сделавшее коренной переворот моей жизни, я, в пустом кабинете отодвинув раз в месяц звонивший телефон, и раскачиваясь на стуле, я, блаженно закрыв глаза, мечтал об использовании удивительных свойств Черной дыры, притягивать к себе и выбрасывать в пространство планеты и даже целые звездные системы. Мечтал выбросить этот богом проклятый район вместе с Вафином и его бухгалтерией в одну из планет Альфа Кита. А альфакитянцы, пожалуй, и не удивились бы таким превосходным соседством, если бы они обитали на уровне чуть выше пещерного. Или отправить все руководство колхоза, на какой-нибудь необитаемый остров. Было бы и им хорошо и нам по легче. Авось райком пришлет руководителей по умнее. Вот было бы смеху! Привыкшие на всех кричать, тем самым, скрывая неумение работать с людьми, вдруг оказались бы одни. С ума бы сошли, пожалуй! Когда я открыл глаза, в дверном проеме, в снопе света падающего из фойе, стояла Она!
– Здравствуйте! Вы будете директор? – спросила она голосом диктора республиканского телевидения. Почему-то я подумал, что она оттуда – сестрица братьев по разуму. Во мне проснулась душа первооткрывателя.
– Угу, – выдавил я, пытаясь скрыть удивление.
– Тогда принимайте на работу. Я методист вместо Ульфата Шангараева. Вот направление районного отдела культуры и диплом, если нужно. Только я думаю, ни к чему, – сказала она, включив свет и приближаясь к столу, за которым сидел я.
Она была красива как космическая ракета на стартовом столе. В ней таилось огромной силы энергия, готовая вот-вот вырваться наружу. И я механический отсчитывал последние секунды: «три, два, один, ноль». И даже прикрыл глаза тыльной стороной ладони, как это делают сталевары перед выпуском металла из печи, опасаясь вспышки. Но она не вспыхнула и не улетела. А затаила энергию в себе, чтобы отдавать ее частями. И она не скупилась. С приходом Айсылу все изменилось. Клуб зажил новой жизнью. Меня словно подменили. Ни свет, ни заря, я мчался в клуб и каждый день в свежей рубашке и галстуке. Не прошло и двух недель, как Айсылу стала предметом разговора всей деревни. О красоте ее, коварстве и хитрости, говорили везде, начиная фермой и кончая фельдшерским пунктом. Где старые бабки в ожидании очереди на укол, массируя, друг дружке старые грешные бока Змеиным ядом, перемалывали косточки всем, уделяя Айсылу особое место.
И так, пожилые женщины осуждали, а молодые завидовали ей. И было чему. Вся мужская половина деревни не сводила с нее глаз, полные тайных желаний. Вскоре заняв призовое место на районном смотре коллективов художественной самодеятельности, мы уже готовились к республиканским. После репетиции опять Айсылу провожал Марат, еще не женатый сорокалетний шофер председательского газика, на правах подвезшего ее из района. Мне же оставалось, после всех запирать клуб на замок и, раздвигая темноту одиноким лучом карманного фонарика топать по направлению к дому, насвистывая грустную мелодию.
«Так можно и Айсылу просвистеть, – думал я. – Ведь она, девушка, что надо! Пора бы уже и о своей семье подумать. А то мать уже замучилась стирать мои рубашки:
– Когда же, сынок, избавишь меня от стирки? Пора, уже какой – нибудь «платок» в дом привести. Какой-нибудь я не хотел. Я мечтал о голубой беретке Айсылу. Шли дни. Она упорно не замечала моих взглядов и вздохов. И по прежнему называла меня только по имени и отчеству. Как у всех в деревне у меня, кроме собственного имени, было наследственное прозвище – Медведь, с применением всех синонимов. Хотя это было не очень приятно, но я искренне желал, чтобы она тоже называла меня так. Я знал, что таким девушкам как она так просто не подойдешь. Для покорения их сердец нужен героический поступок.
– Эльгизар Романович, – сказала она как-то вечером после репетиции. – Завтра день рождение моей мамы. Могу ли я отлучиться денька на два? – При этом задумалась, и виновато добавила. – И нужен какой-нибудь транспорт, чтобы привезти кое-какие вещи.
О проекте
О подписке
Другие проекты