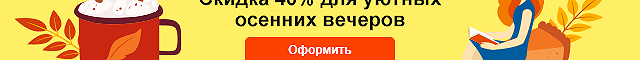
Кочин и Забегалов, поняв наконец-то, что это ищут их, вышли из блиндажа. Они были оба белые будто сама смерть. Офицер из отдела «СМЕРШ» увидел на бруствере лужу крови, поперхнулся, выхватил их кобуры пистолет. Глаза его горели огнём возмездия. Он внимательно посмотрел на поле боя и, ужаснувшись увиденным, выстрелил в грудь командиру полка, а затем и комиссару. – «Мишка Уваров, медленно оседая на землю, выдавил из себя Кочин. Вот так встреча». – «Петька, ты!? А вот это твой друг Забегалов». – простонал подполковник, бросившись к Петру Кочину. Он узнал своего односельчанина, с которым не один пуд соли съели и спросил: «Зачем же вы это сделали?» – «Я хотел победы над ненавистным врагом» – ответил Кочин. – «Каким путём?» – «Неважно». – «Эх вы сволочи, сколько людей загубили. Воевать надо тоже с головой», – Но Кочин уже молчал. Он был мёртв. Твой дядька ещё немного постоял и пошёл, забыв спрятать пистолет в кобуру. Понимаешь, Виктор, меня трясло. Случилось что-то непоправимое. Можно ли понять нашим куцым умишком. Люди с одного села, считай друзья, и такое.
Я видел, как он, шатаясь и прихрамывая, пошёл в сторону от наших блиндажей. Мне показалось, что он в эти минуты очень состарился.
– Михаил, – шептал я спёкшимися губами, но он, погружённый в свои мысли, не услышал меня.
Я осмотрелся. Пуля вошла твоему отцу прямо в затылок, когда он меня раненого волок в блиндаж. А ведь осталось перевалить через бруствер и окоп. Видимо, снайпер стукнул его из укрытия. Не встретится теперь Иван с Машей, останется она недолюбленной, – взвыл я тогда сердцем, – не покачает на своих жилистых руках сынка Витьку. Скоро его зароют прямо в окоте, может быть, прямо с командирами рот и взводов. И за что погиб человек? Конечно, действия командира и комиссара не обсуждают, только, если я буду жив, как я расскажу всё это увиденное в Елизаровке. Ни за что, не поверят. Да и как это всё переварить. Все деревенские, русские люди и вот…
Сколько пролежал так времени, не знаю. Временами в моей голове гремел гневный голос Михаила Уварова, обращённый к командиру и комиссару: – «Врагу помогаете вражьи прихвостни, почему загубили полк?» – И глухие выстрелы в упор: тук, тук, тук, потрясшие моё сознание, будто и я был виноват в этой трагедии, ведь из-за меня погиб Иван Уваров. А разве бы я оставил его в беде? Да никогда! Потом как бы я смотрел в глаза людям. Зачем уж об этом говорить и думать, здесь я не виноват и он тоже. Если буду жив, решил я, обязательно женюсь на Маше, Витюшка будет мне сыном, но как видишь, обет, данный твоему мёртвому отцу, я не выполнил, каюсь, влюбился. Но это, конечно, не оправдание, да и мать твоя отвергла меня.
А пока лёжа в окопе, я умирал. Наложенный Иваном жгут на рану, о которой я сам и не знал, так как был контужен, промок. Кровь, просачиваясь через бинт, текла на землю. Я был в каком-то тумане, но помощи пока не было. Медсёстры не успевали бинтовать раненых. Ты знаешь, Виктор, как нелепо было умереть от потери крови у себя в окопе, когда вышел живым из такого пекла, потеряв при этом друга. Рана, как мне показалось, не так уж и опасна, но кровь остановить не удалось. И я смотрел на людей в белых халатах, что они вот-вот придут. С каждой минутой я угасал, но надежды на спасение не терял. – «Настя, бинты, – услышал я голос женщины, потом ощутил прикосновение рук к ране и окончательно потерял сознание, а очнулся уже в каком-то полуподвале, Кругом стоял полумрак, только вдалеке над ярко освещённым столом склонились врачи. То тут, то там бредили раненые бойцы. – Госпиталь, – подумал я, чувствуя, как прибавляются силы, как восстанавливается прерывистое дыханье, сходит температура. – «Очнулся родненький, – сказала молоденькая медсестра, прикоснувшись прохладной рукой к моему лбу. – Я уж думала, что ты нежилец, слишком худ был от потери крови. Всё бредил, звал какого-то Уварова». – И она грустно улыбнулась, показав ряд белых ровных зубов. Я не ответил, вспомнив Уварова, неравный бой и гибель друга, отвернулся от медсестры. – «Лежи, миленький, лежи», – проворковала она. И я понял, что она поджала пухлые губки и отошла. Мне стало нехорошо за свою невнимательность к этой юной девушке, скромной и незащищённой. Ей лет восемнадцать, зачем я так? Ей ведь тоже нелегко. Жила бы у отца с матерью под крылом, а тут война, кровь, стоны, непосильная работа. Разве это девичье дело? Не надо её отталкивать решил я, всё же как-то лучше, если рядом человек, видишь глаза, руки, лицо, знаешь, что она здорова, и в любую минуту придет тебе на помощь.
Виктор, так оно и было. Она успевала везде: то свалится одеяло, подправит, то попить, поесть принесёт, а если человеку плохо, успокоит, прикоснётся нежными ручками и тяжесть как будто спадает. Да при её присутствии и стонать-то как-то неудобно. Она, как бы приклеивала язык к нёбу своими широко открытыми голубыми глазами. И всем нам хотелось выглядеть бодрым и весёлым, хотя порой и тяжко было, но крепишься изо всех сил, чтобы не показать свою слабость. Её нежный голосочек, приглушённый до мягкой тональности звенит то в одном конце подвала, то в другом. Казалось, девушка не знала усталости и появлялась по первому зову. Её русые длинные волосы, свёрнутые на голове тугим кольцом, высоко приподнимали белую косынку. Я даже не заметил, как эта медсестра вошла в мою жизнь, ждал её, как праздника, волнуясь и краснея. Кровь подступала к лицу, а язык становился ватным. – «Ваня, как дела? – говорила она напевно. – О, да ты молодец, скоро тебя выпишут». – И краснела, стыдливо отведя лицо в сторону.
– Настенька, – шептал я прерывисто, брал её маленькую ручку в свою мозолистую и замолкал, не в силах произнести хоть слово, знал что скоро предстоит расставание, а без неё я уже не мыслил своей жизни. Но когда наступало протрезвление, вспоминал клятву, тушевался, чувствовал, как по лицу пробегала окаменелая судорога, превратив мои мужские черты в сгусток жестокости и бессердечья. И тогда Насте становилось страшно. Женским чутьём она понимала, что меня что-то гнетёт, но что, она не знала. На вопросы, заданные как будто невзначай, уходил пустым ответом, вроде того, а бывает, что на это обращать внимание. Но она-то видела, что я и сам страдал. Ей хотелось одного – правды, какой бы она не была, но я молчал. А время шло. Я с каждым днём креп, только вот на лице была постоянная озабоченность, делая меня по отношению к ней чужим. Вскоре я стал подниматься и выходить на свежий воздух. Он будоражил во мне кровь. Прислушиваясь, к грохоту на улице, мне казалось, что вокруг нас везде идёт бой. Даже сюда долетали пули и осколки, но здесь было сравнительно спокойно, хотя подвал содрогался от взрывов, но жить было можно, а к остальному привыкаешь. Настя, боясь за мою жизнь и здоровье, выходила вместе со мной на улицу. Она строго следила, чтобы я не выглянул выше земного вала, где тянулись ходы сообщения с боевыми позициями. Мне было и радостно от такой опеки и больно, смотрел вокруг, слушал шум боя и хмурился. – «Калинкина, – звал уставший хирург, – опять ушла! Больные ждут»! Настя убегала, оставив после себя стойкий запах больницы и неясное чувство возвышенности и одухотворённости. Я уже знал всё: где живёт, кто её родные, получает ли она от них письма. Конечно, и я не оставался в долгу, выложил всё как на духу кроме своей тайны, которая связывала меня по рукам и ногам. Я видел тебя совсем маленького, требующего к себе особого внимания и заботы, и Машу, убитую горём. И у меня язык не поворачивался ответить однозначно – люблю. Было такое чувство, что я обворовываю себя и её, но поделать с собой ничего не смог, просто не хватало мужества. Ожидая от меня ответа на свой порыв души и сердца, она страдала. И это было написано на её лице. Да она и скрывать от меня ничего не хотела. Война – любить можно урывками. И она хотела любви. А я никак не мог сказать ей это заветное слово, оставив её на страдание. У неё постепенно возникло подозрение, уж не женат ли я? Может быть, имею девушку, которая ждёт меня, может и дети уже есть. Девушка не могла быть в таком неведении, извелась, похудела. Когда меня выписали из госпиталя, она вышла со мной, прижала меня за дверью и крикнула: «Ванька, у тебя есть кто: жена, дети, девушка»?
– Ты что, Настенька! Холост я, – ответил я ей.
От своих же слов я покраснел, сжался, словно выдал что-то недостойное человека. Настя отстранилась от меня, почувствовав фальшь в моих словах, и заплакала. Я обнял её за вздрагивающие плечи, повернул к себе, поцеловал в мокрые от слёз глаза. Она, всхлипывая, успокоилась и, поправив сбившуюся шаль, улыбнулась.
– Я тебе напишу всё, – прошептал я. – Точно я не занят. Я люблю тебя, но у меня клятва, данная моему другу Уварову.
Девушка хотела спросить, мол, что у тебя за клятва такая, но я отстранил её от себя, улыбнулся и зашагал прочь, оставив её в неведении и ещё больше напустив туману. Вскоре немцы нас так прижали, что дай Бог ноги улепётывать. Правда, газеты о нас писали, как о героях, но мы оставляли свою землю, а с ней и людей на поругание врагу. Ох, как стыдно было смотреть в глаза людям. Мы здоровые с оружьем в руках уходим. Подошла молодая женщина с малым ребёнком на руках, спросила у меня: дескать, хлипковаты вы ребятки оказались. Подико, и в штанах мокро. Около Тулы завязался бой. Немцы на нас ходили в атаку несколько раз. Я был ранен очень тяжело. Очнулся в госпитале. И опять возле меня стояла Настя. Везение видно. Она мне сообщила что операция длилась в течении пяти часов и я нахожусь в Москве. Здоровье моё восстанавливалось очень худо, и врачи решили отправить меня домой для дальнейшего лечения. Настя напросилась быть сопровождающей потому что добраться до дому я один не смог. Мне было стыдно своей беспомощности. Я бледнел, но охваченный силой любви, молчал. В госпитале раненых было очень много, и Насте не часто приходилось бывать около меня. А мне хотелось, чтобы она всегда была рядышком и смотрела на меня своими синими глазами. Я почувствовал, что предаю друга, видел тебя, Машу и изнутри поднималась горечь на свою уступчивость, где расширялась, расползалась ноющая боль. Руками мял грудь, но успокоения не было, наоборот ещё острее чувствовал своё ничтожество. И жизнь, как мне казалось, была совершенно ненужной. Я мысленно уносился в тот бой и ругал судьбу, зачем она так поступила. Уваров убит, у него жена и сын, а я Иван Денисов, хотя у меня нет ни сына, ни жены жив и это несправедливо. И сейчас нахожусь как бы между двух полюсов: один греет, другой охлаждает. Из забытья меня вывел голос Насти:
– Ваня, город Грязновец
Я открыл глаза, посмотрел на станцию, кругом лежал снег, и было, как мне показалось очень холодно. Давно ли уезжали отсюда, а сколько событий уже свершилось. У меня захолонуло сердце, станция была всё та же, только, как бы невзначай в ней сквозила какая-то опустошённость. Война оставила свои отметины и здесь. Люди были молчаливые и тихие. Опираясь на плечо девушки, я вышел из вагона, посмотрел на привокзальный парк, где каркала серая ворона, нахохлившись от сильного мороза, задумался.
– Ничего, Ваня, домой приедешь, подлечишься, окрепнешь, ты же молодой, а там видно будет, возьмут тебя на фронт или нет, – вздохнула Настя, – мне же через неделю быть в госпитале.
И она, отвернувшись от встречного ветра, пустила слезу:
– Ванька, окаянный мучитель, зачем терзаешь душу? Я любить хочу, и быть любимой. Мне уже восемнадцать лет. Я ещё никого не любила.
Я не знал, что ей ответить, как утешить, и ненароком сболтнул не то, что требовалось:
– Настенька, не вечно же будет идти эта проклятая богом и людьми война. Должна же она когда-то кончиться. Ну, тяжело, могут убить, но кто-то должен с поля боя раненых выносить и лечить их.
– Эх, Ваня, Ваня, зачем ты мне внушаешь такие простые истины. Неужели я не люблю своей Родины.
Я стушевался. Северный ветер, налетая на нас, поднял с земли снежную пыль, завыл в оторванной железке на крыше вокзала.
– Ещё не хватало простыть на этом ветру, – сказала Настя и потащила меня в помещение.
В вокзале было холодно, но зато не было ветра. Разговор не клеился, и мне не хотелось ничего говорить. Где-то через час приехала машина, и мы с Настей, хотя и было очень тесно, поместились в кабине. Уставший шофер преклонного возраста, посмотрел на нас молча, потом спросил:
– Домой на лечение? Как там?
– Тяжко, отец, – ответил я, – пока перемелешь всю фашистскую нечисть сколько людей потеряешь.
День клонился к вечеру, и в избах деревень уже кое-где зажглись огни. Держа в руках руль разбитого ЗИСа, водитель всматривался в снежную круговерть. Машина шла медленно, фыркая и дымя, словно в её утробе всё уже сошло на нет.
– Ваня, кто это? – крикнула Настя, увидев впереди машины тёмные тени и мелькающие зелёные огоньки.
– Волки, – выдавил из себя шофер. – Их теперь развелось пропасть, со всей считай земли русской сбежались, собак в деревнях пожрали, до скота добрались.
Он остановил машину, приглушил мотор. И сразу со всех сторон послышался волчий вой. Настя прижалась ко мне, мелко вздрагивая от страха
– Сейчас я их немного попугаю. Надоели басурманы, – сказал шофер, поднимаясь с сиденья.
Он снял со специальных крючков винтовку, передёрнул затвор, долго целился по огонькам, потом выстрелил. Вой на какое-то мгновение стих, затем снова послышался только уже подальше и в лесу.
– Если попал, разорвут своего товарища, у них такой уж звериный закон. Шкуры жалко, попортят всю. Завтра днём проверю. Сейчас нельзя, напасть могут. Их здесь несколько стай, да и голодные не перед чем не остановятся, – вздохнул шофер, брякнув винтовкой и, включив скорость, тихо тронулся дальше.
Мимо проплывали кусты, перелески, поля. Машина с большим трудом пробиралась по снегу. Шофер не ругался, вёл машину хладнокровно и осторожно. Ему сейчас было не до чего, чуть прозевал и кукуй. Я устал и уснул прямо на плече у девушки под мерный шум мотора.
– Ваня, вставай, – услышал я голос Насти, – Елизаровка. Где твой дом?
Я осмотрелся вокруг и, узнав место, сказал:
– Вон огонёк светится.
Шофер подъехал, выключил мотор, открыл дверцу. В деревне стояла мёртвая тишина: ни стука, ни скрипа, будто все люди вымерли среди зимнего пространства льда и снега, только ветерок налетал, шумя в скрученных ветвях деревьев, да снег скрипел под ногами, вышедших из машины людей.
«Как страшно», – подумала Настя вслух.
И вторя ей, в моём доме открылась дверь, и на пороге избы, появилась в старенькой кофтёнке неизвестно какого цвета мама. Я крикнул ей. Эхо улетело далеко, далеко за деревню, разбудив на какое-то время галок и ворон. Они с карканьем снова встрепенулись и снова успокоились. А эхо ширилось и росло над деревней, перекатываясь волнами. Но это уже кричали люди, выходя из тёплых домов, направляясь к нашему дому. Ночь длинна, и выспаться можно, главное узнать новости с фронта.
– Ваня, сынок, ты ли это? – вскрикнула мама и зашаталась.
Мы обнялись, да так и застыли на несколько минут, медленно приходя в себя от встречи, а потом мама затараторила радостно и счастливо.
– Последнее время сердце ноет и ноет, а чего и сама не знаю, да и кот старался, замывая гостей лапой.
– Кха, кха, – раздался в тишине голос шофера, – мать застынешь, такая холодина.
Он уже слил воду с радиатора и теперь ждал, когда же его пригласят в дом. Шофер устал, почти сутки сидел за баранкой. Молодой и то не выдержит такой нагрузки, а тут дед. Ему хотелось растянуться всё равно где: на печке, лавке и даже на полу, лишь бы отдохнуть от давящей тяжести во всём теле. Конечно, печка лучше, но куда уж определит хозяйка. Спина ноет и ничего уже не чувствует.
Мама оттолкнула меня от себя, посмотрела, обняла всех по очереди и пригласила в дом. В избе пахло щами, берёзовым веником, видно она недавно мылась в печке, грибами и ещё чем-то тонким едва уловимым. Старик только коснулся лавки, прижался спиной к печке и тут же уснул. Мама помогла ему раздеться и, шепча на ухо, потащила его к тёплой печке со словами:
– Отдохни, отец, наверное, устал, продрог до костей. Печь тёплая, тебе там будет хорошо.
Он улыбнулся одними губами, как бы говоря: ничего, ничего, не волнуйтесь. Печка – это хорошо, спасибо. Ему помогли забраться, и вот уже через несколько минут по всей избе раздался здоровый храп уставшего человека
– Умаялся-то как, – вздохнула мама, – ну, спи, спи сердешный.
И пошла готовить праздничный обед, извлекла из тайника булку водки ещё довоенную, поставила на стол, налила холодных постных щей, вытащила из печки горячую картошку, и загрела самовар. Я и Настя раскрыли походные мешки, вытащили: консервы и хлеб. Смущаясь, Настя поставила на стол бутылочку со спиртом и пошла на кухню помогать хозяйке.
– Не беспокойся, Настенька, я ещё не так стара, управлюсь и сама, а ты отдыхай, устала, наверное, – сказала мама.
Но Настя не ушла, она только улыбнулась:
– Вдвоём-то быстрее, тетя Даша.
Видно было, что им вдвоём очень хорошо, как-то по-особому тепло. Между ними прошла искра взаимопонимания. Материнским сердцем мама поняла тогда, что Настя меня любит. Я видел, как на какой-то миг маму охватило чувство ревности: мол, кто она эта молодая медичка и стоит ли она моего сына. Может быть, она какая-нибудь оторви да брось. Она стала внимательно приглядываться к Насте. Та поняла её взгляд и, краснея, с вызовом, одним махом выпалила:
– Я люблю твоего сына, люблю, понимаете.
Мама опешила от такого всплеска. У неё вырвалось то, чего она потом очень долго жалела, дескать, ах, девонька, как тебя припекло. Война – вот в чём причина. Мать не понимала, как свои чувства девушка не может скрыть от матери сына. Я бы так ни за что в любви не призналась первая. Ну, и времечко, бурное, клокочущее, все спешат жить, любить, хотя смерть повисла почти над каждым, а им что – знай любить. Не думают, что кто-то из них может погибнуть. Видимо, на то она и жизнь.
На улице ещё только забрезжил рассвет, а уж к моему дому стали сходиться люди. И у всех на устах один вопрос: как на этой проклятущей войне, и скоро ли она кончится. А что я мог сказать рядовой Иван Денисов? Не за охами же и вздохами, считай пришла вся деревня: и стар и мал. Как-то надо их всех успокоить и вселить надежду на победу, но как это сделать я и сам не знал. И каким-то седьмым чувством я понял, что нужна правда и только правда.
– Тяжело там на фронте, – начал я, – прёт и прёт вражина, как будто им числа нет. И когда всю эту свору перемелешь, ума не приложу, но ничего наши уже крепко встали, не сдвинешь. Сейчас вообще необходимо накапливать силы, чтобы потом как вдарить!
Николай Александрович Куприянов, председатель колхоза, улыбнулся. Он-то понял, что я говорю устами комиссаров, но всё же это была хоть какая-то надежда. Сам он побывал на империалистической, а потом уж и на гражданской. Для этой войны по старости лет и болезни был негоден. За его на фронте воевали три сына и дочь. Старший сын уже погиб под Смоленском. Теперь он переживал за остальных, боялся пропустить хоть одно слово из моих уст. Когда я закончил говорить, Куприянов обвёл всех строгим взглядом, сказал:
– Если наши остановились и не бегут, жди хороших вестей. Скоро фашисты почувствуют силу нашего оружья и силу нашего духа. Ох, и вдарят же им. Ничего, бабоньки, не вешайте только носа. Сейчас от нас зависит, крепок тыл, солдат воюет.
В избе резко распахнулась дверь. И я, ещё не узнав, кто вошёл, почувствовал, что это пришла твоя мать. Я сразу вспомнил о клятве данной другу Ивану, смутился. А она, забыв поздороваться, долго смотрела на меня, видно слова застряли в горле. И я, не выдержав её взгляда, залопотал:
– Погиб твой Иван, меня спасая.
О проекте
О подписке