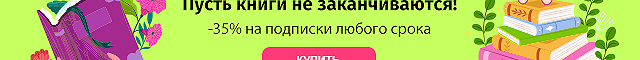
Из класса Алексей давно приметил Володьку Яковлева – доверчивого чернявого парнишку, со смуглым лицом, невысокого и худого, с глазами, в которых, мнилось, отражался целый мир. Он редко был весел, и если смеялся, глаза оставались печальны и сосредоточенны. Он сочинял полные неизбывной грусти стихи, которые нравились Алексею, мечтавшему писать точь-в-точь такую же, трогающую за живое музыку, и Яковлев, доверявший Куницыну душевные творения, отчасти помогал ему тем, что подбрасывал для размышлений материал. Это сближало их, поэтому, когда Владимир попросил Алексея научить азам игры на гитаре, тот не отказался и раза по три в неделю стал бывать в доме Яковлева, что сразу не понравилось маме, желавшей рядом с сыном видеть иного друга, нежели Куницын. Нескрываемую неприязнь она не объяснила, хотя потом, незадолго до командировки, между ней и Володькой возник откровенный разговор.
– Сынок, Алексей пьет?
– Не знаю, а что? Что за вопросы ты задаешь?
– Да, видела сегодня его. Шел с какими-то ребятами по улице, пьян, в руках бутылки. Подумала – неужели вот так и мой сын где-то бродит?
– Что ты, мам? Перестань, ты же меня знаешь.
– Смотри Володя! Сам должен понимать, оступиться легко, а вот потом…
– Мама! – возвысив голос, оборвал разговор Володька. Натянутая тишина воцарилась в комнате, поздний осенний дождь из темноты стучал в окно.
На ноябрьские праздники школа выступала с концертом у шефов. Подготавливая совместно с Алексеем номер – балладу о не вернувшемся солдате, Володька вдруг поразился открывшейся в Куницыне особой артистичности исполнения. И когда под щемящий аккомпанимент гитары он читал стихи, а сидевшие в зале растроганные женщины-матери, проводившие сыновей в опаленный огнем и зноем Афганистан, не могли сдержать слез, Яковлев понял, что сильный телом, кое-где грубоватый Алексей вместе с тем чуткий, легко ранимый парень. А может, казалось? Может это тонкая игра, искусно устроенная Алексеем? Для чего тогда? Но Яковлев, возражая и соглашаясь, чувствовал, что в Алексее, в этом странном парне, молодецкая удаль, переходящая в опасное лиходейство, легкомыслие никак не уживаются с небывалой душевностью, словно непримиримые враждебные люди в нем ведут беспрерывное соперничество, и если побеждает первый, Лешка пакостит, если второй – Лешка готов ради другого разбиться в лепешку. Так оно и получалось.
После концерта ребята сели на рейсовый автобус. Плавно покачиваясь, он нудно тянулся по скользким улочкам: неповоротливо вылезал из цепочки юрких, омытых дождем, автомобилей, подползал осторожно к остановке, гремел дверьми, набирал пассажиров, затем так же осторожно пристраивался к основному потоку и, не торопясь, плыл дальше в гулком течении дороги. Что-то сонное, расслабляющее было в этом ровном движении. И Леха, поначалу нервничавший от невыносимой медлительности, перестал раздраженно вздувать желваки, успокоился, разомлел, почувствовал себя необыкновенно легко, как когда-то в речном трамвайчике, подплывая к пристани за городом в дождливую погоду, когда совсем не хотелось покидать сухого, теплого места, приятно пахнущего перегретым машинным маслом, и затем бежать по пустому берегу к ближайшему укрытию, чтобы до нитки промокшим бесполезно дрожать под дырявым навесом. И он, щурясь в запотевшее окно с прилипшими снаружи водяными горошинами, лишь наблюдал, как закрываясь зонтами, портфелями, целлофановыми кульками, горе-грибники мчались к избушке лесника на опушке, и прислушивался к звучному шлепанью сочных капель на железной крыше.
А Володька после бессонной – мучил больной зуб – ночи, духоты прокуренной комнаты, где он почти безвылазно находился с того момента, как в командировку уехала мать, а вслед за ней по путевке в Пицунду отправился отец, после двух утомительных дней одиночества, после концерта, изнемогал от усталости.
– Володь, мелочь есть? – подал голос Леха и прервал раздумья Яковлева.
– Да, рубля полтора найдется. А что?
– И у меня «рваный». Пивка махнем у «Трех поросят»? Заманчивое предложение для повышенного воображения Яковлева было настольно неожиданным, что представив на минуту картину – себя с кружкой пива – юноша растерялся, промычал неопределенно, хотел было тотчас отказаться, отговорить заодно и Леху, но, подумав, что так, должно быть, не поступают истинные мужчины, поколебавшись, согласился.
Они слезли напротив бара, у рынка. Купили пустую трехлитровую банку. Леха пояснил, что кружек в толчее не хватает. Потом пересекли улицу и вошли в широкие, недовольно заскрипевшие, дубовые, под зазывной вывеской двери, и по скользкой, винтообразной, скрипучей, дощатой лестнице спустились в слабоосвещенный, с нависающими сводами подвал, пахнущий сыростью, кислятиной, спертым воздухом. И с раздраженным сопротивлением окунулись в сплошной гул голосов, этот полумрак, затхлость. Владимир, опять сделав тупое насилие над собой, встал рядом с довольным, улыбающимся Алексеем у липкой стойки.
Банка с подступившей к горлышку пеной, которую Алексей через минуту с королевскими замашками изящно поставил перед Володькой, казалась ведерной, и еще казалось, что выпить ее чисто физически невозможно, но Леха пил, с напускной веселостью, и не желая отставать пил Володька, прямо так, из банки, пока не было кружек.
Оказалось, что здесь у Лехи много знакомых: окружающие знали его, подходили, здоровались, целовали в щеку, шутили, некоторым он кивал с величайшим удовольствием, а Володька, доверчиво подняв лицо, из вежливости молчал.
С юмором, иногда скептически ухмыляясь, Лешка без умолку рассказывал о том, что пережил. И шумные гулянки, о которых он поведал, опять таки с неожиданным воодушевлением, и бесконечные безобразные драки, и переделки – о-го-го какие, в которых побывал, друзья, о которых отзывался с некоторой бесшабашностью и развязанностью, невольно заставляли уважать Леху, поднимали его в глазах простодушного Яковлева. Конечно, это были ребята с улицы, привод в милицию они считали чуть ли не геройством, кое-кто из них побывал в колонии, некоторым она угрожала.
Из диалога между Лехой и его товарищами, услышанного Володькой, ничего ясно не было: ни то, о чем речь, ни то, что хотят эти таинственные люди, чего он хочет от них. Ясно было только то, вернее это было предположением, что кого-то поймали, кто-то боится как бы его не «застучали», кто-то решился на безумный шаг.
Язык заплетался, а пиво за разговором незаметно исчезло. Оставили это место, ставшее родным за проведенный час, и с головокружением, спотыкаясь, сосредоточенно глядя себе под ноги, побрели домой к Лехе. Тетя, у которой он жил, была на работе. Неумело сварили обед, без аппетита поели, поиграли в карты.
– Леха, у меня предки в командировке. Давай завтра вместо уроков у меня посидим, послушаем Высоцкого, главное, доставай бабки, – предложил Володька и пытливо посмотрел на Куницына.
– Хорошо, утром я у тебя.
Последний день каникул Яковлев провел на диване.
Леха позвонил часов в десять. Володька вздрогнул, с кровати поднялся медленно и двери пошел открывать в предвкушении чего-то приятного. «Вот Леха, – думал Володька, – молодец, знает, как чудно провести время». И когда через полчаса зашел довольно обычной наружности Лехин знакомый, и втроем они с шуршанием и звоном вывалили на круглый полированный стол все деньги, и дружок сходил и приволок в сетке пиво, две банки, чтобы сразу побольше (с утра пиво шло хорошо), и потом, когда пришел еще один друг, насмешливый, заносчивый, а за ним и две болтливые, щегольски одетые, смелые девчонки, – Володька так и не понял, откуда они взялись, – и комната наполнилась шумом, и когда громкий смех, визг, голоса неистово зазвенели в ушах, – Яковлев почувствовал, что неповторимо, близко и так остро прежде никогда не испытывал радости «настоящей» жизни, и все это было пугающе, но настолько ошеломительно, красиво, как драгоценный подарок, что он, закидывая ногу за ногу, развалился в кресле и, врываясь в разговоры, порою начинал тоном рачительного хозяина с сожалением кричать: «Братья, где же раньше вы были?!»
Но банки между тем опорожнили, девчонки ушли, пригласив вечером к себе, и делать стало нечего, и было тоскливо и одиноко: хмель только набирал силу, а веселиться хотелось и хотелось. И тогда один из незнакомых ребят сказал облегченно:
– Есть выход. Рулим в школу, там наскребем мелочишки.
И все тотчас вскочили и непослушными руками стали натягивать на разгоряченные тела снятые свитера, потом куртки. Леха помогал одеваться Володьке, и второму, и третьему товарищам.
Мерзли руки. Колючий ноябрьский дождь безжалостно хлестал по лицу, по плитам тротуара, по кучам листьев, по зонтам прохожих, пронизывающий ветер гнал над куполом цирка за Волгу нижний ряд грязных облаков, а верхний, подгоняемый другим ветром, в вышине, плыл в обратную сторону – признак глубокой осени.
На перемене они нашли каких-то ребят, достали деньги и, минут через десять путь их, как из разговора понял Володька, лежал к утренним посетительницам.
По дороге внутренние карманы курток разбухли, отвисли, отяжеленные пол литровыми сосудами. Поежившись, отогревая дыханием покрывшиеся красными крапинками руки, пиная ворохи листьев, они быстро шли по безлюдным серым кварталам. Холод подгонял, и все погасло в Яковлеве – и возбуждение, и приятное утро, и радость от встречи с Лехой, и почудилось, что нескончаем путь этот, что тех девчонок как будто никогда не было, как не было и восторга, и умиления жизнью, и что мир уныл и однообразен. Потом в темном сыром подъезде, усыпанном шкурками семечек, прислонившись к лестничным перилам, они очень долго стояли в ожидании, а Леха настойчиво звонил в квартиру, стучал даже, но никто не открывал.
– Едем к Лариске, – заключил Леха.
И снова Володька ощутил пугающее одиночество, скуку, увидел пустынный двор и сгущающиеся сумерки. Куда ехать? Зачем?
К Лариске на второй этаж Леха поднимался опять один. Володька с ребятами остался внизу и слышал весь разговор между ней и им.
– Собирайся, поедем с нами!
— Я не поеду, у меня много дел.
– Ты что, не поняла?! Какие могут быть дела?
– Понимаешь, не могу я! Все, иди!
– Если уйду я, ты из квартиры уже не выйдешь, и на улице лучше не показывайся, ты меня знаешь…
– Да оставь ее! – изо всех сил крикнул Володька, ему стало не по себе от угроз друга.
Раздался гулкий хлопок двери, и в подъезде звонко задребезжали стекла. Леха спускался тяжелыми прыжками – плащ нараспашку, болтающийся белый шарф, набекрень фуражка. На Володьку он не взглянул, пинком открыл дверь, вышел стремительно, ребята не шелохнулись, и Яковлев, оглянувшись в замешательстве, заметив, что те стоят, тоже остановился.
— Ты что, Володь? – крикнул Леха. – Поехали на «брод».. И ругая себя за безволие, за то, что не может твердо возразить Алексею, Володька, по-клоунски улыбнувшись, прикусив губу, сделал шаг вперед.
«Брод», куда они добрались через час, был не что иное, как детский садик. Рука устала пожимать чьи-то руки, рядом безудержно хохотали две девчонки. А еще через полчаса они, Володька и Алексей, брели по мокрым, стылым улицам. Дождь не прекращался. Яковлев представил свою маленькую комнатку, уютную с жарким камином и желанной постелью, и не выдержал:
– Куда мы идем? Я замерз!
– Ну что ж? Тогда согреемся в этой девяти-этажке, – не моргнув глазом, вывел Леха.
Они поднялись на самый верх, где было тихо, тепло и чуть-чуть светло от тускло горевшей на нижней площадке лампочки. Откуда-то взялся граненый стакан, с паутиной внутри, края его были желтыми, стенки захватанными. Одну за другой откупорили бутылки и стали их опорожнять. Смеялись. Но Володька пил с отвращением, с мыслью, не проглотить бы паутину, а девчонки висли на шеях, иногда падали. Пока Володька поднимал упавшую на колени пьяную спутницу, Леха со второй куда-то исчез. Через полчаса он появился снова и сообщил радостную весть, что им есть, куда ехать.
Еще через полчаса, как понял Володька, по обстановке с мрачным вахтером и группками студентов, они очутились в общежитии. Здесь он успел пожаловаться Лехе, что устал приводить в вертикальное положение свою подругу, на что услышал ехидный ответ;
«В горизонтальном теперь будет удобнее» – и все пропало, сколько потом ни старался припомнить.
Не помнил он и то, как попал домой, как очнулся на кровати, где лежал прямо в одежде, голова кружилась, все быстрей, перед глазами возникали и таяли радужные круги, и густо мельтешили за окном снежинки, в ушах переплетались разговоры вчерашнего вечера, дня, звенели стаканы, а к горлу подкатывал неприятный комок.
Он не выдержал и побежал в ванную.
Померкшее сознание постепенно возвращалось к нему. Начал вспоминать, как кошмарный сон, события минувшего дня, но что-то распадалось и ускользало, и он никак не мог ухватиться за разгадку, что случилось, и отчего какой-то камень мешает спокойно дышать. Он подошел к окну, распахнул его широко, и свежий, ворвавшийся в душную комнату воздух, как эликсир, взбодрил, согнал оцепенение.
Был час зимнего утра. Снег непривычно застилал улицу, пухлой пеленой лежал на грязных прежде тротуарах, на покатых крышах, взбитыми подушками на балконах домов, на сучьях старых лип, на шапках горожан, лениво кувыркаясь, падал сверху, тыкался в мерзлое оконное стекло. Володька, приложив щеку к холодной его поверхности, чувствовал этот мороз, собственную угнетающую слабость, и благодать обновленных безупречно чистых, притягивающих своей белизной улиц. И вдруг эта тонкая нить ощущений оборвалась, исчезла, и за витриной кинотеатра «Старт» бросился в глаза рекламный плакат, названия Яковлев не прочел, а вот рисунок – целующиеся парень с девушкой, как жгучая яркая вспышка выстрела, ударила по памяти: Володька нахмурился, отвернулся. Взгляд упал на фирменную эротического содержания картинку из «Плэй Боя», и краска стыда поползла по его лицу, по коже побежали мурашки, стало плохо: стол и диван покачнулись. И Володька, со звериной силой содрав приклеенный на обои ватман, разорвал в клочья его, отбросил брезгливо, как смердящую тушку убитой крысы. Было дико противно. Он не знал, что происходит, куда пропало чувство радости и нежности, почему так взволнованно переживает все то, что случилось, и почему нет того спокойствия, которое было в присутствии Лехи и тогда, в автобусе, когда ехал с концерта, но он тем не менее понимал и даже, качая головой, вслух бормотал: «Это не должно повториться» – себя он презирал. И чтобы скинуть это гнетущее состояние, на улицу Яковлев выскочил с радостью, не застегивая куртку, чтобы мгновенно окунуться в волнистый студеный воздух.
О школе он и не вспомнил.
Леха не зашел ни в этот день, ни в следующий. Он пропал, не появлялся и дома. Плача, мать расспрашивала всех, кто видел сына в последний раз; насупившись, Володька не сказал о нем ни слова, только после уроков, молча и быстро собравшись, исчез, ходил допоздна, как чумной, по друзьям Алексея, объехал вдоль и поперек город, но никто сообщить что-либо вразумительное о Лехе не мог. В не увенчавшихся успехом поисках винил себя, винил за то, что оставил друга, раздражался по пустякам и уж думал: «Если его нет в живых, то и мне…» – не спал ночь, а наутро, усталый, грустный, потемневший лицом Володька, подходя к классу, услышал звонкий, веселый смех Куницына и рванулся к двери: «Неужели?! Действительно, живой, невредимый, за партой сидел Алексей.
– Ты жив! Слава Богу! – облегченно и как на последнем издыхании кричал Володька, но тут же последовал еще один, дикий крик, тонкий, надрывный, почти истеричный: – Ты! Ты обо мне подумал?! Мать твоя в слезах! Ты идиот! Я город перевернул, сбился с ног! Понял?!
Володька яростно хлопнул дверьми и быстро зашагал прочь от кабинета, слезы сами по себе вырывались из глаз. Догнал его Леха на лестнице: «Володь, извини. Хорошо? Погоди, Володь. Извини, я очень прошу, очень».
– Отстань!
– Ну, Володь, я ж не хотел.
– Отстань!
– Ты что обиделся?
– На обидчивых… сам понимаешь…
О проекте
О подписке
Другие проекты