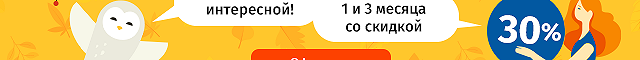
22. Рука Рахми-эфенди
По мере того как приближался день помолвки, меня отвлекало множество не терпящих отлагательства проблем, и времени не оставалось даже на размышления о любовных страданиях. Помню, как долго обсуждал с друзьями, которых знал с детства и семьи которых дружили с нашей, где найти шампанское и другие «европейские» напитки для приема в «Хилтоне». Тем, кто побывает в моем музее много лет спустя, я должен пояснить, что в те годы импорт иностранных алкогольных напитков жестко и ревностно контролировался государством, и так как легально получить валюту для его ввоза было почти невозможно, то законным путем в страну попадало очень мало напитков. Однако в продовольственных магазинах и закусочных богатых кварталов, в лавках, где торговали привозным нелегальным товаром, в барах дорогих отелей и просто на улицах, в тысячах киосках лотерейных билетов шампанское, виски и контрабандные американские сигареты никогда не переводились. Главные сомелье отелей почти все прекрасно знали друг друга и всегда выручали в таких ситуациях, посылая запасные бутылки, чем спасли немало приемов. А после светские обозреватели писали в газетах, какие напитки на том или ином приеме были настоящими, а какие – местного, турецкого розлива. Одна такая статья могла испортить реноме хозяев, поэтому мне следовало проявить внимание.
Часто я уставал от суеты, но тогда мне звонила Сибель, и мы ездили в Бебек, на склоны Арнавуткёя или в Этилер – районы, которые в те времена только начали развивать, – чтобы посмотреть какой-нибудь строящийся дом с хорошим видом. Мне все больше нравилось представлять, как мы с Сибель будем жить в таком доме, пахнущем цементом и известкой, нравилось решать, где будет стоять кровать, а где разместится столовая и куда мы поставим большой диван из модного мебельного магазина Нишанташи, чтобы лучше видеть Босфор. По вечерам мы ходили в гости, и Сибель любила рассказывать о наших поездках знакомым, обсуждать, как строят сейчас новые дома, вид из их окон, делиться нашими планами на жизнь, я же, с непонятным мне самому смущением, пытался сменить тему разговора, выбирая ничего не значащие замечания о «Мельтеме», о футболе и о новых барах, открывшихся к лету. Тайное счастье с Фюсун сделало меня не очень разговорчивым, теперь на вечеринках мне все больше нравилось наблюдать за происходящим со стороны. Грусть тогда уже постепенно захватывала мою душу, но я только сейчас понимаю, что в те дни не ощущал ее так явно, как потом. Самое большее, что я замечал тогда, – нежелание поддерживать беседу.
– Ты в последние дни как-то задумчив и неразговорчив, – заметила Сибель, когда я ночью вез ее домой.
– В самом деле?
– Мы молчим уже полчаса.
– Знаешь, я на днях с отцом встречался… До сих пор не могу забыть. Словно он к смерти готовится.
В пятницу, 6 июня, за восемь дней по помолвки и за девять до вступительного экзамена Фюсун, мы с отцом, братом и Четином поехали куда-то в Чукурджуму – район между Бейоглу и Топхане, где находятся знаменитые бани, – на поминки в дом пожилого рабочего родом из Малатьи, который всю жизнь проработал у отца, с тех самых пор, как тот открыл свое дело. Я хорошо помню огромного добряка, ставшего частью отцовской фирмы с того дня, когда он поступил на работу мелким посыльным. На фабрике произошел несчастный случай, и ему отрезало руку, поэтому он носил протез. После травмы отец перевел его в контору, и мы хорошо знали его. В первые годы его протез пугал нас с братом, но потом мы попривыкли и часто играли с рабочим, когда приходили к отцу, потому что Рахми-эфенди всегда был веселым и много шутил. Однажды мы с братом видели, как он, разастлав молитвенный коврик, отстегнул протез и совершал намаз в пустом кабинете.
Нас встретили два сына Рахми-эфенди, такие же веселые и улыбчивые, великаны. Оба поцеловали руку отцу. Усталая, худая и измотанная жена покойного, едва увидев нас, заплакала, вытирая слезы краешком платка. Отец с нежностью, на которую не были способны ни я, ни брат, утешил ее, обнял и расцеловал сыновей Рахми-эфенди и неожиданно быстро был принят всеми, точно родной. А мы с братом томились от неловкости.
В таких ситуациях важны не слова, не поведение, не искренность и даже не степень сопереживания, а способность подстраиваться под окружающих. Старший сын покойного протянул нам пачку «Мальтепе», отец, брат и я взяли по сигарете, прикурили от спички, протянутой им, и все трое, по странному совпадению одновременно закинув ногу на ногу, закурили с таким видом, будто заняты самым важным делом на свете. Иногда мне кажется, что причина популярности сигарет не в воздействии никотина, а в том, что, когда куришь, создается ощущение, что делаешь нечто крайне важное.
Видимо, от непривычного вкуса «Мальтепе» я вдруг почувствовал, что вот-вот поддамся заблуждению – мне в тот момент показалось, будто стою на пороге постижения какой-то важной тайны бытия. Счастье – главная проблема в жизни. Кто-то счастлив, а кто-то не может быть счастливым. Большинство людей, конечно, пребывают где-то посредине. В те дни я купался в море счастья и не хотел этого замечать. Сейчас, по прошествии лет, мне кажется, нет лучше способа его сохранить. Но тогда я не замечал счастья не потому, что хотел сберечь, а потому что боялся утратить, к чему неизбежно шел, потому что боялся потерять Фюсун. Неужели оттого я стал более молчалив и более восприимчив в те дни?
Глядя на предметы маленькой, бедной, но чисто убранной квартиры (на стене висели два самых модных в 1950-е годы предмета домашнего интерьера: барометр и фигурно выписанная басмала[7] в рамке), я в какой-то момент почувствовал, что сам готов заплакать вместе с женой Рахми-эфенди. На телевизоре лежала вязаная салфетка, а на салфетке стояла фарфоровая статуэтка собачки. У собачки был жалобный вид, – казалось, она вот-вот тоже заплачет. Помню, отчего-то почувствовал себя лучше, глядя на эту фарфоровую собачку, а потом подумал о Фюсун.
23. Молчание
По мере того как приближался день помолвки, мы с Фюсун все меньше разговаривали, паузы с каждым днем все увеличивались, а наши ежедневные встречи, продолжавшиеся, самое меньшее, два часа, и любовные ласки, страсть которых с каждым днем возрастала, были отравлены этим молчанием.
Однажды Фюсун прервала его:
– Маме пришло приглашение на помолвку. Она очень обрадовалась, отец говорит, что мы обязательно должны пойти. Родители хотят, чтобы и я пошла. Слава богу, на следующий день у меня экзамен, так что не придется изображать болезнь.
– Это мать послала приглашение, – сказал я. – Лучше не приходи. Мне, по правде, тоже идти не хочется.
Я ждал, что Фюсун в ответ выкрикнет: «Ну и не ходи!» – но она промолчала. Чем ближе становилась помолвка, тем яростней мы отдавались друг другу, тем сильнее и привычнее сжимали друг друга руками, ногами, телами, будто мы давние любовники и много лет живем вместе. Иногда просто лежали, не обмолвившись и словом, и смотрели на тюлевые занавески, слегка покачивавшиеся от легкого ветра, проникавшего через открытую балконную дверь.
Мы встречались в «Доме милосердия» ежедневно, в условленный час. И ни разу не заговорили о нашем положении, о моей грядущей помолвке, о том, что с нами будет потом, – мы старались избегать всего, что напомнило бы об этом, и страстно занимались любовью. Невозможность говорить о том, что постепенно надвигалось на нас, приводила к молчанию. Снаружи доносились крики игравших в футбол мальчишек. В первые наши встречи нам было хорошо и весело, мы не задумывались о том, что будет, болтали обо всем на свете, смеялись и шутили, сплетничали о родственниках, об общих знакомых из Нишанташи. Но теперь веселье быстро сходило на нет. Предстоящая потеря навевала томящую грусть. Но та не отдаляла нас друг от друга, а, наоборот, странным образом сближала.
Я постоянно ловил себя на мысли, что мечтаю по-прежнему встречаться с Фюсун после помолвки. Мечта о рае (может быть, следовало сказать «иллюзия»?), где события сменяют друг друга своим чередом, постепенно превратилась в четкое и ясное намерение. Я убеждал себя, что Фюсун не бросит меня, ведь мы сильно и искренне привязаны друг к другу. Не могу сказать, что до конца сознавал свои мысли – скорее, нащупывал их в залежах подсознания. И не признавался в них даже себе самому. По словам же и поступкам Фюсун пытался догадаться, что думает она. Фюсун все это замечала, но ничего не говорила, и паузы становились длиннее. В то же время она смотрела на мое поведение и явно делала какие-то безнадежные выводы. Иногда мы оба подолгу пристально разглядывали друг друга, чтобы высмотреть важное для себя. Вот и сейчас о прежнем напоминают белые трусики, какие носила Фюсун, ее белые ребяческие носки и грязные белые спортивные тапочки, немые свидетели нашего молчания.
День помолвки, против всех чаяний, наступил внезапно. С утра я занимался тем, что решал проблему с виски и шампанским (один из поставщиков не хотел привозить бутылки, пока не получит все деньги). Потом отправился на площадь Таксим, где выпил айран и съел гамбургер в кафе «Атлантик», существовавшем со времен моего детства, и сходил к парикмахеру, которого тоже знал еще ребенком. Болтливому Джевату. До конца 1960-х годов его мастерская располагалась в Нишанташи, затем он переехал в Бейоглу, где открыл парикмахерскую неподалеку от мечети Хусейн-аги. Мы нашли себе в Нишанташи нового мастера, Басри, но если я бывал в Бейоглу, то иногда заходил к нему побриться, когда хотелось послушать его веселые шутки и посмеяться. Джеват обрадовался, узнав, что у меня помолвка, и побрил меня особенно тщательно, как полагается жениху, помазал мне щеки импортной пеной для бритья, а затем увлажняющим, без запаха, по его словам, кремом, и тщательно сбрил каждый волосок на моем лице. Пешком я дошел до Нишанташи, до «Дома милосердия».
Фюсун, по своему обыкновению, пришла вовремя. Несколько дней назад я как-то обмолвился, что в субботу нам не стоит встречаться, потому что у нее впереди экзамен, но Фюсун возразила, что после насыщенной подготовки накануне испытания ей хотелось бы отдохнуть. Под предлогом сдачи экзамена она и так уже два дня не ходила на работу.
Не успела она войти, как села за стол и закурила.
– От мыслей о тебе у меня теперь никакая математика в голову не лезет, – насмешливо сказала она. Потом расхохоталась, будто это что-то ненастоящее, будто это слова из кино, и вдруг густо покраснела.
Увидев, как она смущена и расстроена, я попытался перевести все в шутку. Мы оба делали вид, будто не вспоминаем о том, что у меня сегодня помолвка. Но ничего не получалось. Мы оба испытывали тяжкую, невыносимую боль. От нее не избавишься шутками, ее не облегчишь разговорами и не разделишь друг с другом. От нее можно было только сбежать, не размыкая объятий. Но грусть охладила и отравила наш любовный пыл. Фюсун лежала на кровати, как безнадежный больной, который прислушивается к собственному телу, и, казалось, рассматривала облака печали, сгустившиеся у нее над головой, а я был рядом и смотрел вместе с ней в потолок. Мальчишки-футболисты сегодня не ругались и не кричали, мы слышали только удары мяча о землю. Затем замолчали даже птицы, и наступила полная тишина. Откуда-то издалека донесся гудок парохода, ему ответил еще один.
О проекте
О подписке