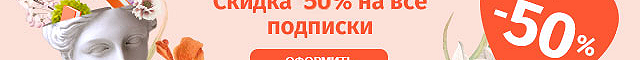
Незнакомца осаждали тысячи подобных мыслей, обрывками проносясь в его голове, подобно тому как разорванные знамена развеваются во время битвы. На краткий миг он сбрасывал с себя бремя дум и воспоминаний, останавливаясь перед цветами, головки которых слабо колыхал среди зелени ветер; затем, ощутив в себе трепет жизни, все еще боровшейся с тягостною мыслью о самоубийстве, он поднимал глаза к небу, но нависшие серые тучи, тоскливые завывания ветра и промозглая осенняя сырость внушали ему желание умереть. Он подошел к Королевскому мосту, думая о последних прихотях своих предшественников. Он улыбнулся, вспомнив, что лорд Каслри, прежде чем перерезать себе горло, удовлетворил низменнейшую из наших потребностей[10] и что академик Оже, идя на смерть, стал искать табакерку, чтобы взять понюшку. Он пытался разобраться в этих странностях, вопрошал сам себя, как вдруг, прижавшись к парапету моста, чтобы дать дорогу рыночному носильщику, который все же запачкал рукав его фрака чем-то белым, он сам себя поймал на том, что тщательно стряхивает пыль. Дойдя до середины моста, он мрачно посмотрел на воду.
– Не такая погода, чтобы топиться, – с усмешкой сказала ему одетая в лохмотья старуха. – Сена грязная, холодная!..
Он ответил ей простодушной улыбкой, выражавшей всю безумную его решимость, но внезапно вздрогнул, увидав вдали, на Тюильрийской пристани, барак с вывеской, на которой огромными буквами было написано: Спасение утопающих. Перед мысленным его взором вдруг предстал г-н Даше во всеоружии своей филантропии[11], приводя в движение добродетельные весла, коими разбивают головы утопленникам, если они, на свою беду, покажутся из воды; он видел, как г-н Даше собирал вокруг себя зевак; выискивал доктора, готовил окуриванье; он читал соболезнования, составленные журналистами в промежутках между веселой пирушкой и встречей с улыбчивой танцовщицей; он слышал, как звенят экю, отсчитываемые префектом полиции лодочникам в награду за его труп. Мертвый, он стоит пятьдесят франков, но живой – он всего лишь талантливый человек, у которого нет ни покровителей, ни друзей, ни соломенного тюфяка, ни навеса, чтобы укрыться от дождя, – настоящий социальный нуль, бесполезный государству, которое, впрочем, и не заботилось о нем нисколько. Смерть среди бела дня показалась ему отвратительной, он решил умереть ночью, чтобы оставить обществу, презревшему величие его души, неопознанный труп. И вот с видом беспечного гуляки, которому нужно убить время, он пошел дальше по направлению к набережной Вольтера. Когда он спустился по ступенькам, которыми оканчивается мост, на углу набережной его внимание привлекли старые книги, разложенные на парапете, и он чуть было не приценился к ним. Но тут же посмеялся над собой, философически засунул руки в жилетные карманы и снова двинулся беззаботной своей походкой, в которой чувствовалось холодное презрение, как вдруг с изумлением услышал поистине фантастическое звяканье монет у себя в кармане. Улыбка надежды озарила его лицо, скользнув по губам, она облетела все его черты, его лоб, зажгла радостью глаза и потемневшие щеки. Этот проблеск счастья был похож на огоньки, которые пробегают по остаткам сгоревшей бумаги; но его лицо постигла судьба черного пепла – оно опять стало печальным, как только он, быстро вытащив руку из кармана, увидел три монеты по два су[12].
– Добрый господин, la carità! La carità Catarina![13] Хоть одно су на хлеб!
Мальчишка-трубочист с черным одутловатым лицом, весь в саже, одетый в лохмотья, протянул руку к этому человеку, чтобы выпросить у него последний грош.
Стоявший в двух шагах от маленького савояра старый нищий, робкий, болезненный, исстрадавшийся, в жалком тряпье, сказал грубым и глухим голосом:
– Сударь, подайте сколько можете, буду за вас Бога молить…
Но когда молодой человек взглянул на старика, тот замолчал и больше уже не просил, – быть может, на мертвенном этом лице он заметил признаки нужды более острой, чем его собственная.
– La carità! La carità!
Незнакомец бросил мелочь мальчишке и старику и сошел с тротуара набережной, чтобы продолжать путь вдоль домов: он больше не мог выносить душераздирающий вид Сены.
– Дай вам Бог здоровья, – сказали оба нищих.
Подходя к магазину эстампов, этот полумертвец увидел, как из роскошного экипажа выходит молодая женщина. Он залюбовался очаровательной особой, беленькое личико которой красиво окаймлял атлас нарядной шляпы. Его пленил стройный ее стан, грациозные движения. Спускаясь с подножки, она слегка приподняла платье, и видна была ее нога, тонкие контуры которой отлично обрисовывал белый, туго натянутый чулок. Молодая женщина вошла в магазин и занялась покупкой альбомов, коллекций литографий; она заплатила несколько золотых, они блеснули и звякнули на конторке. Молодой человек, прикинувшись, что рассматривает выставленные у входа гравюры, устремил на прекрасную незнакомку самый пронизывающий взгляд, какой только способен бросить мужчина, и ответом ему был тот беззаботный взор, которым случайно окидывают прохожих. С его стороны то было прощание с любовью, с женщиной! Но этот последний, страстный призыв не был понят, не взволновал сердца легкомысленной женщины, не заставил ее ни покраснеть, ни опустить глаза. Что он для нее значил? Еще один восхищенный взгляд, еще одно возбужденное ею желание, и вечером она самодовольно скажет: «Сегодня я была премиленькой». Молодой человек отошел к другому окну и не обернулся, когда незнакомка садилась в экипаж. Лошади тронули, и этот последний образ роскоши и изящества померк, как должна была померкнуть и его жизнь. Он пошел вялой походкой вдоль магазинов, без особого интереса рассматривая образцы товаров в витринах. Когда кончились лавки, он стал разглядывать Лувр, Академию, башни cобора Богоматери, башни Дворца правосудия, мост Искусств. Все эти сооружения, казалось, принимали унылый вид, отражая серые тона неба, бледные просветы между туч, которые придавали какой-то гневный облик Парижу, подверженному, подобно хорошенькой женщине, необъяснимо капризным сменам уродства и красоты. Сама природа как будто задумала привести умирающего в состояние скорбного экстаза. Весь во власти тлетворной силы, чье расслабляющее действие находит себе посредника во флюидах, пробегающих по нашим нервам, он чувствовал, что его организм неприметно становится как бы текучим. Муки этой агонии сообщили всему волнообразное движение: людей, здания он видел сквозь туман, где все колыхалось. Ему хотелось избавиться от раздражающего воздействия мира физического, и он направился к лавке древностей, чтобы дать пищу своим чувствам или хотя бы дождаться там ночи, прицениваясь к произведениям искусства. Так, идя на эшафот, преступник старается собраться с духом и, не доверяя своим силам, спрашивает чего-нибудь подкрепляющего; однако сознание близкой смерти на мгновение вернуло молодому человеку самоуверенность герцогини, имеющей двух любовников, и он вошел в лавку редкостей с видом независимым, с той застывшей улыбкой на устах, какая бывает у пьяниц. Да и не был ли он пьян от жизни или, быть может, от близкой смерти? Вскоре у него опять началось головокружение, и все вдруг показалось ему окрашенным в странные цвета и одушевленным легким движением. Несомненно, это объяснялось неправильным обращением крови, то бурлившей в его жилах, как водопад, то струившейся спокойно и вяло, как тепловатая вода. Он заявил, что желает осмотреть залы и поискать, не найдется ли там каких-нибудь редкостей на его вкус. Молодой рыжеволосый приказчик с полными румяными щеками, в картузе из выдры поручил присмотреть за лавкой старухе крестьянке, своего рода Калибану[14] женского пола, занятой чисткой изразцовой печи, настоящего чуда искусства, порожденного гением Бернара Палисси[15]; затем он сказал незнакомцу небрежным тоном:
– Взгляните, сударь, взгляните! Внизу у нас только вещи заурядные, но потрудитесь подняться наверх, и я покажу вам прекраснейшие мумии из Каира, вазы с инкрустациями, резное черное дерево – подлинный Ренессанс, все только что получено, высшего качества.
Незнакомец находился в таком ужасном состоянии, что болтовня его чичероне, эти глупо-торгашеские фразы были ему противны, как мелочные приставания, которыми умы ограниченные убивают человека гениального; однако, решив нести свой крест до конца, он делал вид, что слушает проводника, и отвечал ему жестами или односложными словами; но постепенно он отвоевал себе право идти молча и безбоязненно отдался последним своим размышлениям, которые были ужасны. Он был поэтом, и душа его случайно нашла себе обильную пищу: ему предстояло еще при жизни увидеть прах двадцати миров.
На первый взгляд залы магазина являли собой беспорядочную картину, в которой теснились все творения, божеские и человеческие. Чучела крокодилов, боа, обезьян улыбались церковным витражам, как бы порывались укусить мраморные бюсты, погнаться за лакированными вещицами, вскарабкаться на люстры. Севрская ваза, на которой г-жа Жакото изобразила Наполеона, находилась рядом со сфинксом, посвященным Сезострису. Начало мира и вчерашние события сочетались здесь причудливо благодушно. Кухонный вертел лежал на ковчежце для мощей, республиканская сабля – на средневековой пищали. Г-жа Дюбарри[16] с пастели Латура, со звездой на голове, нагая и окруженная облаками, казалось, с жадным любопытством рассматривала индийский чубук и старалась угадать назначение его спиралей, змеившихся по направлению к ней. Орудия смерти – кинжалы, диковинные пистолеты, оружие с секретным затвором – чередовались с предметами житейского обихода: фарфоровыми мисками, саксонскими тарелками, прозрачными китайскими чашками, античными солонками, средневековыми коробочками для сластей. Корабль из слоновой кости на всех парусах плыл по спине неподвижной черепахи. Пневматическая машина лезла в самый глаз императору Августу, сохранявшему царственное бесстрастие. Несколько портретов французских купеческих старшин и голландских бургомистров, столь же бесчувственных теперь, как и при жизни, возвышались над этим хаосом древности, бросая на него тусклые и холодные взгляды. Все страны, казалось, принесли сюда какой-нибудь обломок своих знаний, образчик своих искусств. То было подобие философской мусорной свалки, где ни в чем не было недостатка – ни в трубке мира дикаря, ни в зеленой с золотом туфельке из сераля, ни в мавританском ятагане, ни в татарском идоле. Здесь было все, вплоть до солдатского кисета, вплоть до церковной дароносицы, вплоть до плюмажа, некогда украшавшего балдахин какого-то трона. А благодаря множеству причудливых бликов, возникавших из смешения оттенков, из резкого контраста света и тени, эту чудовищную картину оживляли тысячи разнообразнейших световых явлений. Ухо, казалось, слышало прерванные крики, ум улавливал неоконченные драмы, глаз различал не вполне угасшие огни. Вдобавок на все эти предметы набросила свой легкий покров неистребимая пыль, что придавало их углам и разнообразным изгибам необычайно живописный вид.
Эти три залы, где теснились обломки цивилизации и культов, божества, шедевры искусства, памятники былых царств, разгула, здравомыслия и безумия, незнакомец сравнил сперва с многогранным зеркалом, каждая грань которого отображает целый мир. Получив это общее, туманное впечатление, он захотел сосредоточиться на чем-нибудь приятном, но, рассматривая все вокруг, размышляя, мечтая, подпал под власть лихорадки, которую вызвал, быть может, голод, терзавший ему внутренности. Мысли о судьбе целых народов и отдельных личностей, засвидетельствованной пережившими их трудами человеческих рук, погрузили молодого человека в дремотное оцепенение; желание, которое привело его в эту лавку, исполнилось: он нашел выход из реальной жизни, поднялся по ступенькам в мир идеальный, достиг волшебных дворцов экстаза, где вселенная явилась ему в осколках и отблесках, как некогда перед очами апостола Иоанна на Патмосе пронеслось, пылая, грядущее.
Множество образов, страдальческих, грациозных и страшных, темных и сияющих, отдаленных и близких, встало перед ним толпами, мириадами, поколениями. Окостеневший, таинственный Египет поднялся из песков в виде мумии, обвитой черными пеленами, за ней последовали фараоны, погребавшие целые народы, чтобы построить себе гробницу, и Моисей, и евреи, и пустыня, – он прозревал мир древний и торжественный. Свежая и пленительная мраморная статуя на витой колонне, блистая белизной, говорила ему о сладострастных мифах Греции и Ионии. Ах, кто бы на его месте не улыбнулся, увидев на красном фоне глиняной, тонкой лепки этрусской вазы юную смуглую девушку, пляшущую перед богом Приапом, которого она радостно приветствовала? А рядом латинская царица нежно ласкала химеру! Всеми причудами императорского Рима веяло здесь, вызывая в воображении ванну, ложе, туалет беспечной, мечтательной Юлии[17], ожидающей своего Тибулла. Голова Цицерона, обладавшая силой арабских талисманов, приводила на память свободный Рим и раскрывала перед молодым пришельцем страницы Тита Ливия. Он созерцал: «Senatus populusque romanus»[18]; консул, ликторы, тоги, окаймленные пурпуром, борьба на форуме, разгневанный народ – все мелькало перед ним, как туманные видения сна. Наконец, Рим христианский одержал верх над этими образами. Живопись отверзла небеса, и он узрел Деву Марию, парящую в золотом облаке среди ангелов, затмевающую свет солнца; она, эта возрожденная Ева, выслушивала жалобы несчастных и кротко им улыбалась. Когда он коснулся мозаики, сложенной из кусочков лавы Везувия и Этны, его душа перенеслась в жаркую и золотистую Италию; он присутствовал на оргиях Борджа, скитался по Абруццским горам, жаждал любви итальянок, проникался страстью к бледным лицам с удлиненными черными глазами. При виде средневекового кинжала с узорной рукоятью, которая была изящна, как кружево, и покрыта ржавчиной, похожей на следы крови, он с трепетом угадывал развязку ночного приключения, прерванного холодным клинком мужа. Индия с ее религиями оживала в буддийском идоле, одетом в золото и шелк, с остроконечным головным убором, состоявшим из ромбов и украшенным колокольчиками. Возле этого божка была разостлана циновка, все еще пахнувшая сандалом, красивая, как та баядерка, что некогда возлежала на ней. Китайское чудовище с раскосыми глазами, искривленным ртом и неестественно изогнутым телом волновало душу зрителя фантастическими вымыслами народа, который, устав от красоты, всегда единой, находит несказанное удовольствие в многообразии безобразного. При виде солонки, вышедшей из мастерской Бенвенуто Челлини, он перенесся в прославленные века Ренессанса, когда процветали искусства и распущенность, когда государи развлекались пытками, когда указы, предписывавшие целомудрие простым священникам, исходили от князей церкви, покоившихся в объятиях куртизанок. Камея привела ему на память победы Александра, аркебуза с фитилем – бойни Писарро[19], а навершие шлема – религиозные войны, неистовые, кипучие, жестокие. Потом радостные образы рыцарских времен ключом забили из миланских доспехов с превосходной насечкой и полировкой, а сквозь забрало все еще блестели глаза паладина.
Вокруг был целый океан вещей, измышлений, мод, творений искусства, руин, слагавший для него бесконечную поэму. Формы, краски, мысли – все оживало здесь, но ничего законченного душе не открывалось. Поэт должен был завершить набросок великого живописца, который приготовил огромную палитру и со щедрой небрежностью смешал на ней неисчислимые случайности человеческой жизни. Овладев целым миром, закончив обозрение стран, веков, царств, молодой человек вернулся к индивидуумам. Он стал перевоплощаться в них, овладевал частностями, обособляясь от жизни наций, которая подавляет нас своей огромностью.
Вон там дремал восковой ребенок, уцелевший от музея Руйша[20], и это прелестное создание напомнило ему о радостях юных лет. Когда он смотрел на волшебный девичий передник какой-то гаитянки, пылкое его воображение рисовало ему картины простой, естественной жизни, чистую наготу истинного целомудрия, наслаждения лени, столь свойственной человеку, безмятежное существование на берегу прохладного задумчивого ручья, под банановым деревом, которое даром кормит человека сладкой своей манной. Но внезапно, вдохновленный перламутровыми отливами бесчисленного множества раковин, воодушевленный видом звездчатых кораллов, еще пахнувших морской травой, водорослями и атлантическими бурями, он становился корсаром и облекался в грозную поэзию, запечатленную образом Лары[21]. Затем, восхищаясь изящными миниатюрами, лазоревыми золотыми арабесками, которыми был разукрашен драгоценный рукописный требник, он забывал про морские бури. Ласково убаюкиваемый мирными размышлениями, он стремился вернуться к умственному труду, к науке, мечтал о сытой монашеской жизни, беспечальной и безрадостной, ложился спать в келье и глядел в стрельчатое ее окно на монастырские луга, леса и виноградники. Перед полотном Тенирса он накидывал на себя солдатский кафтан или же лохмотья рабочего; ему хотелось надеть на голову засаленный и прокуренный колпак фламандцев, он хмелел от выпитого пива, играл с ними в карты и улыбался румяной, соблазнительно дебелой крестьянке. Он дрожал от стужи, видя, как падает снег на картине Мьериса, сражался, смотря на битву Сальватора Розы. Он любовался иллинойсским томагавком и чувствовал, как ирокезский нож сдирает с него скальп. Увидев чудесную лютню, он вручал ее владелице замка, упивался сладкозвучным романсом, объяснялся прекрасной даме в любви у готического камина, и вечерние сумерки скрывали ее ответный взгляд. Он ловил все радости, постигал все скорби, овладевал всеми формулами бытия и столь щедро расточал свою жизнь и чувства перед этими призраками природы, перед этими пустыми образами, что стук собственных шагов отдавался в его душе, точно отзвук другого, далекого мира, подобно тому как шум Парижа доносится на башни cобора Богоматери.
Подымаясь по внутренней лестнице, которая вела в залы второго этажа, он заметил, что на каждой ступеньке стоят или висят на стене вотивные щиты[22], доспехи, оружие, дарохранительницы, украшенные скульптурой, деревянные статуи. Преследуемый самыми странными фигурами, чудесными созданиями, возникшими перед ним на грани смерти и жизни, он шел среди очарований грезы. Усомнившись наконец в собственном своем существовании, он сам уподобился этим диковинным предметам, как будто став не вполне умершим и не вполне живым. Когда он вошел в новые залы, начинало смеркаться, но казалось, что свет и не нужен для сверкающих золотом и серебром сокровищ, сваленных там грудами. Самые дорогие причуды расточителей, промотавших миллионы и умерших в мансардах, были представлены на этом обширном торжище человеческих безумств. Чернильница, которая обошлась в сто тысяч франков, а потом была продана за сто су, лежала возле замка с секретом, стоимости которого было бы некогда достаточно для выкупа короля из плена. Род человеческий являлся здесь во всей пышности своей нищеты, во всей славе своей гигантской мелочности. Стол черного дерева, достойный поклонения художника, резанный по рисункам Жана Гужона, стоивший когда-то нескольких лет работы, был, возможно, приобретен по цене осиновых дров. Драгоценные шкатулки, мебель, сделанная руками фей, – все набито было сюда как попало.
– Да у вас тут миллионы! – воскликнул молодой человек, дойдя до комнаты, завершавшей длинную анфиладу зал, которые художники минувшего века разукрасили золотом и скульптурами.
– Вернее, миллиарды, – заметил таинственный приказчик. – Но это еще что, поднимитесь на четвертый этаж, вот там вы увидите!
О проекте
О подписке

