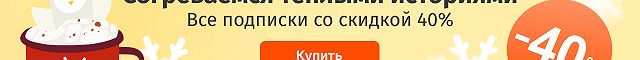
Двадцать на восемьдесят
К вечеру план так и не появился. Рэм пластом лежал на тахте, наблюдая, как тянутся по полу солнечные лужи, как смещаются они, отсчитывая часы дня и жизни каждого, кто пытается этот день осилить. Обычный день, вторая половина июля, самая середина лета. Тополь отлетел, липа набухла, осыпался каштанов цвет. Схлынула первая волна отпусков, закрыты сессии, получены табели успеваемости, отгремела смена летнего лагеря «Счастливый век», куда Толик наладил поток легкой дури и веселящих таблеточек, что сделало век и правда счастливым. На какое-то время.
Люди жарятся в офисах, электрички возят тонны тел и кубометры раскаленного воздуха. Смерть настигает толстяков, обрывая работу сердечной мышцы. Смерть хватает за горло астматиков. Смерть поджидает на немытой тонкой кожице персика, в струйке воды городского фонтана. Смерть пахнет горечью, но даже она в середине июля выгорает, становясь обжигающе безликой. Косит безжалостно, смотрит слепо, скалится злобно.
Рэм чувствовал ее близость и постоянно был на взводе. В нос било полынью, голову вело по дуге, ноги обмякли, будто кости потеряли твердость, будто мир вокруг стал миражом. Рэм старался не выходить из дома до первой темноты. Трусливо прятался от всех этих падающих с инфарктами на раскаленный асфальт, бьющихся в агонии, получающих фатальный удар от небесного светила. Пусть мрут себе сколько угодно, невелика потеря. Врал, конечно. Ему до сих пор бывало невыносимо жалко и тошно, когда полынь приоткрывала занавес очередного трагического финала чьей-то незамысловатой пьесы. Только от жалости этой прока не было. И без того забот хоть отбавляй.
А вечером, скоренько вылив в себя светлой крепленой семерки, Рэм выползал из подъезда и плелся к пацанам. Перетереть новости, обсудить планы, поделить нажитое посильным трудом. Бандерлоги Толика светового дня тоже не жаловали, в этом они с Рэмом отлично сошлись. А к вечеру выбирались из нор и с залихватским гиканьем принимались крушить все на своем пути, пожирая себе подобных.
Сегодня в их меню было заявлено особенное блюдо. Рома-Ромочка-Ромашка. Хамомилла обыкновенная. Заварить в кипятке, отжать и выбросить. Пить маленькими глотками, не чокаясь, за упокой души новопреставленного раба Божия Рэма, который по глупости своей посмел руку свою сраную да на благодетеля нашего Толю Лимончика поднять. Совсем охамел, гнида.
Жизни у Рэма оставалось до захода солнца, как в дурацкой сказке. Он следил за временем по движущимся лужицам света и, когда они достигли ножки пыльного кресла с гобеленовой подушечкой, перестал судорожно обдумывать план спасения. Черт с ним, слышишь, мам? Черт с ним со всем. Куда приятней просто лежать, просто смотреть, ощущая себя в теле, а тело в себе.
Бабка косилась на него неодобрительно, дважды трогала лоб, качала головой и тяжело ковыляла прочь. Тапки со смятыми задниками шаркали по старому линолеуму. Рэм провожал ее тоскливым взглядом. Вот его сегодня забьют до смерти, как дворового пса, а она кому нужна будет? Лучше бы ты о ней заботилась, мам, чем о тщательности замазывания синяков и супе два раза в неделю.
Ближе к сумеркам бабка закряхтела, укладываясь, и воцарилась тишина. Спала бабка бесшумно. Ни храпа, ни сопения, ни шевелений. Рэм иногда застывал на пороге, прислушиваясь: не померла ли? Травяной горечью от нее несло постоянно – настойки, таблетки, запах старости и сердечных капель могли перебить любую полынь. Зайти в бабкину спальню Рэм не решался, так и уходил, как дурак, на цыпочках.
А бабка просыпалась к утру. И всегда кричала. Захлебывалась реальностью, в которую возвращалась. Рэм открывал глаза в своей комнатенке с топчаном, слушал, как судорожно она хватает воздух и все никак не может отдышаться. Прямо как он сам, выблеванный очередным полынным приходом. Это сходство не пугало его, скорее примиряло с бабкиными странностями. Будто они были в одной лодке. Ладно, не в одной, но в соседних. Что уже немало.
Так что сумерки Рэм встречал один, а когда в окно ударил первый камушек, даже не вздрогнул. Хмыкнул только, вот же детский сад – камушками в стекла бросать. Эсэмэску написать, видите ли, недостаточно. Еще бы черную метку прислал, Толик, юный романтик, блять.
Рэм поднялся с топчана, зачем-то принялся поправлять покрывало, заметил, что руки мелко дрожат, сжал кулаки и пошел к двери. Смятое покрывало осталось горбиться, тоскливо и печально, будто зная, что возвращаться Рэм не планирует.
У подъезда его ждал Серый. Лопоухий, как всегда, трезвый, как давно уже не был. Бросил короткий испуганный взгляд, шмыгнул носом:
– Здорóво.
Руку не протянул. На приветствие Рэм не ответил, кивнул только. Застыл у замалеванной краской двери, посмотрел выжидающе.
– Толик тебя зовет, – пряча глаза, проговорил Серый. – Пойдем, а?
Рэму даже жалко его стало. Вот же встрял, бедолага. Знакомы они были с малолетства, когда мама вместо лагеря привозила сына к бабушке на лето. Отец служил по подмосковным частям, наращивал авторитет, коллекционировал звезды. А Рэм носился по пыльному двору, учился играть в подкидного, сдирал колени, воровал яблоки и без конца ломал, а потом чинил велик. С Серым они тогда были не разлей вода. Это потом их разлило, развело, растащило. Одного – в военное училище, второго – в ПТУ.
А когда Рэм вернулся, проверяя языком опасно покачивающиеся зубы, то к Серому пошел в первый же день. Тот посмотрел, присвистнул, но вопросов задавать не стал. Выудил из-под шкафа бутылку «Путинки», плеснул в чашку с отломанной ручкой. Рэм выпил не глядя. Ахнул, задохнулся, прослезился даже. А когда первая волна жара отхлынула, почувствовал, что его отпустило.
– Мне бы денег поднять, – поделился он с Серым.
Тот закивал, налил еще под одной, дождался, пока Рэм прокашляется, и повел к Толику. Вот и теперь они шли той же дорогой. Между домов, по сонным дворам, кивая встреченной в темноте гопоте, к единственной многоэтажке на районе. Серый молчал, Рэм тоже. Все было понятно без слов. Но, занося руку над кнопкой домофона, Серый не сдержался:
– Я же говорил тебе с Толиком не тупить.
И правда говорил. Рэм кивнул:
– Так вышло.
Серый помолчал, собираясь с мыслями, спросил осторожно:
– Ты за бабло с ним?
– Нет. – Рэм потянулся к домофону и сам набрал номер квартиры Лимончика. – За девушку.
Раздался пронзительный писк, за ним ответный. Дверь размагнитилась. Рэм шагнул в холод подъезда. Серый остался на улице. Протянутая рука белела в опускающейся ночи. Рэм крепко ее пожал.
Серый умрет осенью. Глупо ввяжется в мутную драку за гаражами. Бритый под ноль крепыш повалит его в октябрьскую грязь, начнет пинать тяжелыми ботинками, а когда поймет, что Серый ударился виском о торчащий из земли угол бетонного блока, то коротко выругается и побежит. А Серый останется лежать на боку, удивленно смотреть в ранние сумерки. Рэм увидел это в тот самый день, когда пил водку из побитой кружки, но ничего не сказал, только выпил еще по одной. И пошел к Лимончику.
Толик жил на третьем этаже. Внезапно вспомнилось, как отец ворчал, получая служебную квартиру на седьмом, мол, сволочи, могли бы и на третьем дать, хороший этаж – еврейский. Откуда он взял такую глупость, Рэм так и не понял. Ну и не спросил, понятное дело. Ни у отца, ни у мамы, которая мелко кивала залаченной головой, заранее соглашаясь со всем, что скажет этот большой мужчина в военной форме. Рэм попытался прикинуть, а что за год это был, а в какой класс он тогда перешел, а пришлось ли менять школу. Все – лишь бы не думать, куда это поднимается он на онемевших от страха ногах.
Рэму было страшно. До металлического привкуса на языке, до тошнотворной слабости. Казалось бы, ну чего ему бояться. Ему. Повидавшему такой дичи, что словами не описать. Ему. Ловящему приходы безо всякой дури. Ему. То ли пророку, то ли банальному психу в стадии обострения. Но он боялся. Представлял, как Толик поднимет тонкие бровки, горестно поправит идеально уложенную челочку и даже слушать его не станет.
– Фас, – бросит он бандерлогам.
– Рады стараться, гражданин начальник! – ответят они.
И потащат на пустырь, а там закопают живьем. Делов-то. Только умирать Рэму не хотелось. Вот когда ехал к бабке, злой и испуганный, смерть выглядела самым подходящим вариантом. И в первые дни тоже. И в первые месяцы. А потом он, сам того не понимая, как-то прижился в Клину. Оброс броней, примирился с полынностью. Все такой же злой, но переставший бояться. Первый раз в жизни свободный. И терять этого не хотелось. Но Толик о его желаниях спрашивать не станет.
Рэм потоптался на площадке, нужная дверь была жизнерадостно оранжевой. Массивная такая дверь с железной прослойкой под мягкой обивкой. Толиков папа грузил дальнобойщиков и отправлял по маршрутам страны и ближнего зарубежья. Оттуда ли растут ноги у товара, Рэм никогда не спрашивал. Но думал, что оттуда. Старшего Лимончикова он видел раза три – низенький, крепко сбитый, абсолютно лысый мужик с косматыми бровями и огромными ручищами. На отца Толик похож не был, может, только пальцами своими неловкими. Наверное, тонкие кости и правильные черты достались ему от матери, но ее Рэм не встречал. Так что два эти человека соединялись в его сознании одной лишь фамилией. И ощущением опасности, которая от них исходила.
Стук в дверь получился робкий. Рэм поморщился, занес руку, чтобы постучать еще раз, но ему уже открыли. На пороге высилась громада Черкаша. Впору было вспоминать план Б, пусть плана А и не существовало. За Черкашом посылать никто не любил. Не столько из-за уважения к его важной персоне, сколько из нежелания долго и упорно прибирать за ним, когда дело будет сделано. Да и поблизости он обычно не бывал, потому как ошивался в местах отдаленных, но отдаленных меньше, чем хотелось бы. А тут вот свезло.
Рэм скользнул взглядом по глыбе, втиснутой в спортивный костюм, и вяло поздоровался. Черкаш ответил кивком, посторонился, освобождая проход в коридор, и тут же захлопнул дверь. Послышался лязг замка. Рэм тяжело сглотнул и поплелся на свет, туда, где тускло горела кухонная лампочка.
– Не туда, – рыкнул ему в спину Черкаш.
Пришлось оборачиваться, в полумраке поблескивали белые лампасы на трениках.
– Туда.
Рука, охватом в бедро нормального человека, махнула в сторону боковой двери. Дальше кухни Рэм никогда не заходил, но приговоренным, видимо, дозволялось больше остальных. Дверь распахнулась без скрипа.
В комнате горел абажур в тряпичном плафоне, его теплый свет лился на пол, путался в тяжелых шторах и окутывал приземистый диван каким-то особенным сонным уютом. На диване развалился Толик, больше в комнате никого не было. В руках Лимончик сжимал джойстик и не отрываясь смотрел в экран телевизора, подвешенного на стену.
– Садись давай, – не глядя бросил он Рэму.
Тот потоптался на пороге, но все-таки зашел, присел на краешек. Дверь тут же захлопнулась. Видимый уют комнаты слегка померк.
– Держи.
В руки лег холодный пластик, все тут же завибрировало, засверкало огоньками.
– Да не. Я не люблю. – Рэм попытался вернуть джойстик, но Толик его не слушал.
– Короче, надо доехать до той метки на карте. Вон, видишь, звездочка?
В правом углу экрана светилась карта с переплетением улиц, незнакомыми символами и прочей чепухой. На переднем плане рычала от нетерпения блестящая и черная машина, а в ней сидел огромный чернокожий парень, готовый повторить любое движение рычажков и кнопочек под пальцами Рэма.
Когда-то купить приставку было мечтой всей жизни. Рэм просил ее на Новый год, потом на день рождения, потом в награду за табель без троек. Мама все обещала спросить отца, а потом – вместе с отцовским окриком и глухим ударом – обещания кончились. Мечта сдулась, забылась. И вот, гляди-ка, сбылась. На тебе, Ромочка, поиграй напоследок.
– Как доедешь, надо будет в дом зайти, ну, я на месте объясню, – тараторил Лимончик. – Гони.
И Рэм погнал. По мигающим миллионами нарисованных огней улицам, мимо нарисованных машин, через нарисованные перекрестки в нарисованный переулок. Даже не сбил никого, чем насмешил Толика:
– Моралист!
Толик вообще вел себя до ужаса спокойно. Расслабленно возлежал на диване, комментировал пролетающие мимо дома:
– Вот тут тачку можно перекрасить, когда угнал.
А потом:
– Здесь меня копы в воду скинули, я от них гнал на катере и врубился в причал.
И еще:
– Тут можно в коллективную игру хреначить. Ограбление картеля, например. – И загоготал так заразительно, что Рэм тоже улыбнулся.
Звездочка на карте как раз замигала, предупреждая, что они на месте.
– Выходи и топай вон к тому дому.
На экране парень вылез из тачки и потащился к крыльцу приземистого особняка.
– Прикинь, какие хоромы у мелочи всякой, а мы всё по хрущевкам щеримся. – Толик почти лежал уже, широко расставив ноги, тощие лодыжки выглядывали из домашних шорт. – Иди, короче, вперед, выбивай дверь и заходи.
– А если постучаться? – подхватывая тон, спросил Рэм.
Лимончик повернулся к нему. По лицу расплылась чернота, нос распух, под глазами округлились два синяка. От расслабленного уюта ни черта не осталось.
– Не откроют.
Рэм осторожно положил джойстик на диван. Руки предательски вспотели.
– Играй, – холодно приказал ему Толик.
О проекте
О подписке
Другие проекты