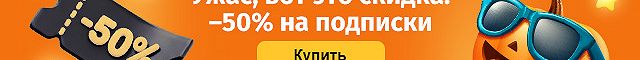
– Не следует мешать естественному течению событий, – наставительно заметила Кшися, принципиально перекусывая нитку зубами, чтобы еще раз подчеркнуть, что по труду у нее была-таки тройка. – Судьба постоянна в своей мстительности. К тому же Салтан Абдикович обожает различные демонстрации, а госпитальный отсек у нас так и не задействован.
– Но-но, накаркаешь, – предупредил Алексаша. – Кончила?
– Не-а, – не без злорадства сказала Кшися. – Но подворачивать буду завтра. А швы обметывать – послезавтра. Пусть Гамалей без меня помучается.
Нельзя сказать, чтобы она не любила рукодельничать, скорее наоборот; но одно дело – возиться с кантиками и бантиками на уже готовом костюме, раскроенном и сшитом домашним полуавтоматом, а другое – выполнять самую грубую работу, орудуя ножницами и иглой совсем как в Средние века.
– Ну, кончила не кончила – идем вниз, постукаемся, – распорядился Алексаша.
Кшися давно уже заметила, что в абсолютно идентичной на первый взгляд паре Диоскуров распоряжается всегда именно он. А больше делает, соответственно, Наташа. Правда, последнее требовало проверки – Диоскуры были техниками по связи, и практически Кшися за работой их и не видела.
Между тем солнце давно уже перевалило за полдень, начало рыжеть и, как всегда неожиданно, провалилось в мутноватую прорву за верхней кромкой ограждения – словно и не было безоблачного тропического дня. Размытая теневая черта быстро поползла от стен здания станции к восточному сектору, занятому Кшисиными делянками. Дом этот, возведенный по особому проекту, напоминал древний Колизей – круглое сооружение в четыре этажа и без внешних стен. Жилые комнаты, лаборатории, кухня, даже зал заседаний – все это аборигены Та-Кемта могли наблюдать через защитную стену, которая извне была абсолютно прозрачна.
Девяносто дней напряженнейшего последнего этапа подготовки экспедиции были перенесены сюда, прямо на окраину одного из немногочисленных кемитских городов, и по твердому априорному убеждению Большого Совета за этот срок кемиты должны были привыкнуть к таким похожим на них пришельцам с далекой Земли.
Но они не привыкали. Они попросту перестали интересоваться ими…
Сбегая по лесенке, вьющейся вокруг внешней колонны, Кшися мысленно корила себя за радость, с которой она согласилась на три дня вольной жизни. Не до воли! Вон Самвел – нашел какой-то минерал, на Земле неизвестный; клянется, что отменное удобрение. Нужно выпросить у Самвела хотя бы горсточку, и попробовать на своих грядках, и кончать с этим огородным геоцентризмом – петрушкой да морковкой, а самыми форсированными методами окультуривать тутошние корешки. С этими надвигающимися холодами кемиты просто вымрут от голода, если не научатся огородничать. Тем более что и учиться-то они не очень хотят. Поглядишь видеозаписи – так нарочно воротят носы от их станции. При такой тяге к обучению…
Воспоминание об утреннем разговоре, нечаянно подслушанном на этих самых ступеньках, укололо реальной тревогой. А ведь могут и прикрыть станцию, отозвать на Большую Землю. С Галактического Совета станется, там полным-полно перестраховщиков и обдумывальщиков с бородами, как у Черномора. Не найдено «формулы контакта» – и баста! Погасят видимость с той стороны, ночами перетащат оборудование на «Рогнеду», сам Колизей аннигилируют, и в одно прекрасное утро проснутся кемиты – и нет ничего, лужок с газонной травкой. Несколько веков будут рассказывать детишкам: «И привиделось нам диво дивное…» – и тихохонько вымирать от голодухи и неистребимых наследственных болезней.
А доблестный экипаж несостоявшейся экспедиции будет все тренироваться и тренироваться аж до посинения дна глазного яблока, а все земные Гамалеи и Абоянцевы будут заседать в поисках своей формулы…
– Что вы, Кшисенька? – скрипучим голосом осведомилась Аделаида, обгоняя девушку.
– Так. Тоска по родине.
– Ну-у-у, вот этого уж нам совсем не следует демонстрировать… – И проследовала вниз, четко вколачивая высоченные каблуки в многострадальные ступеньки и похлопывая по перильцам аккуратно завернутыми в синтериклон кроссовками.
И поделиться-то ни с кем нельзя: подслушанное не передают. Даже если услышал нечаянно. Так что прими, голубушка, вид естественный и непринужденный, и – на стадион, «стукаться». Абоянцев и так уж всех допек со своими «демонстративными» видами спорта: баскетоном, футой, ретроволейболом. А то, что она по два часа тренируется по всем видам древней борьбы – то с Алексашкой, то с Меткафом, – это не в счет. Потому как это, естественно, происходит в колодце, то есть центральной части здания, где расположено все то, что аборигенам видеть не следует.
Так что хочешь не хочешь, а пришлось играть.
Впрочем, какая это была игра? Собралось девять человек, да и то после сурового окрика Абоянцева. Последний, кстати, лучше бы и совсем не становился: и не отчитаешь его, и не прикрикнешь в критической ситуации. Гамалей, правда, не стеснялся, но его, как игрока экстра-класса, ставили против Васьки Бессловесного, программу которого жестко ограничивали по скорости и высоте прыжков. Алексашу и Наташу приходилось разводить по разным командам, чтобы не создавать заведомого перевеса, а слабый пол ввиду низкой квалификации только увеличивал неразбериху на площадке. Короче, игра сводилась практически к поединку Васьки с Гамалеем, а если добавить, что судила матчи Макася, метавшаяся между площадкой и кухней с вечно подгорающим ужином, то ничего удивительного не было в том, что волейбол из здорового развлечения превращался в унылую повинность.
Да и Кшисино настроение, омраченное невозможностью поделиться сведеньями о надвигающейся катастрофе, необъяснимым образом передалось всем окружающим, так что за вечерний стол, заботливо накрытый Макасей (роботам не дозволялось коснуться даже краешка скатерти), уселись в неуемной тоске, словно продули не самим себе, а по крайней мере сборной Куду-Кюельского космодрома, позорно вылетевшей в этом сезоне даже из лиги «Б».
– Если Наташа с Алексашей не перестанут лаяться через сетку, – ультимативным тоном заявила Кшися, – то я вообще играть не буду.
– Это почему же? – Абоянцев на корню пересекал все антиспортивные выступления.
– Они как сцепятся, так пятнадцать минут стой и мерзни. А когда стоишь, вечно кто-то за ноги кусает. Куриные блохи, наверное.
Аргумент озадачил даже начальство.
– А почему меня не кусают? – спросил Гамалей. Получилось глупо, Диоскуры (благо не их начальство) фыркнули.
– Инстинкт самосохранения, – шепнул Алексаша.
Йох, начисто лишенный чувства примитивного юмора, удивленно поднял белые брови. Самвел пихнул Алексашу локтем в бок – расквитался-таки за давешнее.
Абоянцев вытащил из заднего левого кармана блокнотик, сделал пометку:
– Аделаида, голубушка, придется вам провести ионную дезинфекцию.
– Не далее как две недели назад… – Тощая бесцветная Аделаида имела обыкновение замолкать на половине фразы, словно экономила энергию.
Но говорила она всегда столь примитивные вещи, что ее все понимали.
– И черви передохнут, – вставила тихонечко Кшися. – В верхнем слое, по крайней мере.
– Дезинфекцию начнете завтра, сразу после завтрака. – Абоянцев вложил карандашик в книжечку, сунул ее было в задний правый карман, но спохватился: правая половина всех его карманов, как это было всем известно, предназначалась исключительно для вещей и записных книжек личного характера.
Спохватившись, переложил в левый.
– Мария Поликарповна, матушка, кого мы ждем?
– Да я ж… – спохватилась Макася.
Кухня и столовая располагались на первом этаже, разделенные прозрачной перегородкой, через которую в просветы между здешними пальмочками, угнездившимися в традиционных кадках, было видно, как кашеварит Сэр Найджел. Сначала Макасе придали Ваську Бессловесного, но Макася под угрозой забастовки вытребовала себе антропоида повышенной сложности, мотивируя это тем, что у Сэра Найджела всегда можно получить членораздельный ответ, что и когда он солил.
Надо отдать должное – готовил этот, как выражался Гамалей, «феминоантропоидный тандем» превосходно.
Сэр Найджел выкатил тележку с тарелками из кухни, степенно проследовал по голубому асфальту, окаймлявшему Колизей, и втолкнул тележку под сень пальмочек.
– Крабовый салат всем, – доложил он скрипучим голосом, – тринадцать азу, одни пельмени с капустой, по-казацки.
– Чьи пельмени? – спросил Гамалей. – Я бы поменялся.
– Между прочим, я тоже, – пробасил Йох.
– Тогда нас трое, – буркнул Меткаф.
– Пятеро! – крикнул Алексаша. – Но это в добавление к азу!
– Я бы, конечно… – протянула Аделаида.
– Едоки, чьи пельмени?
– Пельмени мои, – сказал Абоянцев. – Давно ожидал тихого бунта, но никак не думал, что это будет гастрономический бунт.
Все притихли.
– Сэр Найджел, – по-хозяйски повелел Гамалей, – соблаговолите-ка приготовить порций пятнадцать казацких пельменчиков, да поживее!
Абоянцев сердито на него покосился:
– На первый раз прощаю, но прошу заметить, батюшка, что антропоидное время дороже, нежели консервы. Поэтому прошу продумывать меню и изменения вносить, как положено, не позднее, чем за полчаса до принятия пищи.
Антропоид скрылся в холодильной камере, но аппетит, кажется, был всем попорчен: педантичное замечание начальника экспедиции подействовало, как позавчерашний соус.
– Между прочим, приближается день рождения Марии Поликарповны, – уныло, как о готовящейся ревизии, предупредила Аделаида. – Почему бы не запланировать…
Кажется, это был единственный случай, когда реплика врача вызвала восторженную сенсацию. За сравнительно короткое время было выдвинуто незафиксированное количество предложений, вполне удовлетворивших начальника экспедиционно-исследовательской группы.
Разрядка действительно была необходима, но вот сколь быстро общее уныние достигнет прежнего уровня, после того как догорит именинницкий костер, будет съеден именинницкий пирог и допит именинницкий пунш?..
Зазвонил столовский будильник: девятнадцать двадцать пять по местному времени. Пора на вечерний урок.
Непринужденной, как всегда, неторопливой вереницей подымались на третий этаж, в «диван». Поначалу это была типовая классная комната со столами и стульями, с доской и магнитофоном. И одним диваном. Но вскоре из-за мест на диване начала ежевечерне возникать упорная возня. Абоянцев хмурился, и тогда в классной комнате явочным порядком стали появляться диваны и исчезать столы. Абоянцев промолчал, потому что так и не смог понять: то ли это естественная потребность уставших за день людей, то ли микробунт.
Сирин Акао заняла свое место за единственным уцелевшим столом. Никто не знал, откуда она родом: к Сирин не очень-то подступишься с вопросами. Похожа она была на абстрактную восточную принцессу: вся в ярких шелках чистых контрастных цветов, до неправдоподобия миниатюрная во всем, кроме ресниц и узла иссиня-черных волос – они огромны или, во всяком случае, таковыми кажутся. Но это – пока она молчит. Стоит Сирин заговорить, как ее изящный яркий ротик становится квадратной пастью, из которой торчат крупные квадратные же зубы. Это выдает несомненную японскую ветвь в ее происхождении, но вынуждает девушку к молчанию и неулыбчивости. Ребята попробовали было назвать ее «мадам Баттерфляй» – не привилось.
Сирин Акао воздела крошечные ладошки, трижды хлопнула:
– Благо Спящему!
– Благо Спящему! – отозвались все нестройным хором, но уже по-кемитски.
– Натан, прошу вас. Вы поутру встречаете на улице своего друга… Алексей, прошу и вас. Утренний диалог, как всегда.
Это была обычная разминка – словарный запас языка Та-Кемт был заложен у каждого из них гипнопедически, но тренироваться нужно было ежедневно. Тренироваться, не зная толком, когда на Земле примут хотя бы принципиальное решение о возможности непосредственного контакта…
«Благо Спящему!» – «Благо стократ». – «Почивала ли твоя семья с миром?» – «С миром и с храпом…»
– Алексей! Храп считается серьезным физическим недугом, ибо нарушает тишину. Поэтому если угодно: «НЕ с миром, НО с храпом». Хотя о таких вещах, по-видимому, принято помалкивать. Продолжайте.
Традиционный диалог продолжался.
«Как почивали отец и мать?» – «Сон их спокоен и мудр». – «Как почивали братья и сестры?» – «Во сне они приобщались к мудрости Богов». – «Был ли крепок сон дядюшек и тетушек?» – «Моей престарелой бабушке паук опустился на нос, и она от страха…»
– Алексей! В Та-Кемте пауки – милые домашние зверушки, вроде наших хомячков. Их никто не боится.
Сирин-сан начинает сердиться, и напрасно. Иначе ведь от этих усыпляющих диалогов действительно кто-нибудь уснет! И как только эти кемиты могут разводить подобную нудятину с утра пораньше! Ведь это начисто снимает всю работоспособность. Ах да, диалог… «Моей престарелой бабушке приснилась невеста ее младшего правнука. Она, то есть невеста, а не бабушка, была бела, как сметана, и проворна, как кошка…»
– Фу! – закричали все хором, а Кшися – громче всех. Плагиат, даже на примитивном наречии Та-Кемта, здесь не поощрялся.
Приходилось поправляться. «Девушка была смугла, как грецкий орех изнутри…» – «Как звали эту девушку?» – «Ее звали Сиреневый Инкассатор» (это уже на земном).
Сирин слегка краснеет, сердится. Когда она сердится молча, она очаровательна.
– Алексей, вы отвечаете прегадко. Я поражена. Иоханн, ваш сон, пожалуйста.
«Мой сон благоволящие ко мне Боги наполнили благоуханием весенних цветов, кои срывал я для увенчания костра всесожжения. Почтеннейший Неусыпный снизошел принять от меня корзину с цветами, кои вознес…»
– «Кои вознесены были». Это типичный оборот. Прошу дальше.
– «Кои вознесены были на вершину Уступов Моления… э-э… дабы они сожжены были… э-э… во ублажение… то есть во услаждение… Спящих Богов».
– Во, должно быть, вонища!..
– Прошу вас заметить, Натан, что рассказам о снах натурализм не свойствен.
– У меня такое ощущение, Сирин-сан, – проговорил Гамалей, – что сны большей частью выдумываются. Уж очень они однотипны, высоконравственны, что ли..
– …Не исключено, – кивнул Абоянцев. – Кстати, Сирин-сан, в ночной почте две любопытные рамочки прибыло. Вы бы нам перевели их, голубушка…
– Разумеется, Салтан Абдикович.
Запела, зазвенела в магнитофоне пустая нить; все молча, выжидающе смотрели на вращающуюся рамочку.
Между тем сиреневые сумерки наполнили узкую учебную комнату, расположенную, как и все помещения Колизея, вдоль открытой лоджии. Небо было розовато-цинковым, как всегда, когда садится солнце и из-за горизонта вываливается чудовищная по своим размерам, голубоватая, испещренная царапинами и щербинами луна. Подымается она невысоко, и для того, чтобы увидать ее, приходится забираться на верхний этаж Колизея, а еще лучше – на крышу. Сюда, в «диван», прямой свет ее не проникает никогда, и только траурное лиловое мерцание близкого неба наполняет в эти вечерние часы всю огромную чашу станции невыразимо печальным мерцанием, столь явственно ощутимым, что оно воспринимается как материально существующая, овеществленная безнадежность.
– Вы будете переводить, Кристина, прошу… – быстрый шепоток Сирин Акао и кивок-полупоклон в сторону Кшиси.
Кшися стискивает пальцы, напрягая внимание, а нежный, с придыханием голосок, удивительно напоминающий ее собственный, тихо и певуче вырастает из серебристой чашечки магнитофона. Кшися переводит, не запинаясь, – это ей дается легко, и два девичьих голоса звучат в унисон:
– «…переполнится мера тяжести вечернего неба, и пепел нашей печали упадет на город и задушит живущих в нем..»
Взахлеб, по-бабьи, вздыхает Макася. И все замирают – настолько созвучны слова эти невесть откуда взявшейся щемящей томительности. Лиловые липкие сумерки, и до утра – ни маячащего вдали костра, ни звезды на горизонте…
– Кто-нибудь там, помоложе, да включите нормальный свет! – не выдерживает Абоянцев.
Сирин приостанавливает звук, пока комната наполняется привычным золотистым светом. И снова голос – только теперь мужской, и Кшисин торопливый шепоток:
– «Нет вечера без утра, ниточка моя, бусинка моя; но только нет мне и дневного солнца без вечернего взгляда твоего. Темна и росиста ночь, только без вечернего слова твоего мне ни тьмой накрыться, ни сном напиться…» – Кшися вдруг вспыхнула и беспомощно огляделась: да нужно ли, можно ли переводить такое?
Все молчали, понурясь.
– «Руки мои скоры в своем многообразии, мысли мои придумчивы в повелении рукам; согласись только – и я откуплю тебя у Закрытого Дома!» – «Не Закрытому Дому, а Спящим Богам принадлежит все сущее…» – «Когда откупал Инебел сестру твою, не Богам он платил, а жрецам, прожорливым и ненасытным». – «Блаженство есть сон, а не сытость…» – «Блаженство – это стоять в сумерках у ограды и слышать, как ты сзываешь своих младших, а они разбегаются с визгом по всему двору, и ты ловишь их, и купаешь их с плеском, и гонишь их, смеясь и припевая, в спальню, а потом все стихает, и вот уже шелестят кусты, и ветви у самой ограды раздвигаются, и руки твои ложатся на побеленные кирпичи… Разреши мне выкупить тебя!» – «Спящим Богам угодна неизменность. Инебел откупил сестрицу Вью, она собрала платья и посуду, и сложила корзину, и омылась настоем из пальмовых игл, и вот ждет она уже четыре дня, когда он придет за ней, и блаженства нет во взоре ее, и в плечах ее, и в руках ее занемевших…»
Снова тоненько поет пустая нить. Сирин Акао медлит выключить звук, словно что-то еще может добавиться, словно что-то еще может перемениться.
– А вышеупомянутый Инебел, вероятно, порядочный шалопай, – приподняв брови, констатировал Магавира.
– Зачем шалопай? – взорвался Самвел. – Сволочь он, вот кто. Таких надо…
Стремительные руки его, взметнувшиеся вверх, выразительно сомкнулись.
– Да? – сказала Кшися. – Быстрый какой! А если этот Инебел только сейчас и полюбил по-настоящему, тогда что? Между прочим, Ромео тоже бросил свою Розалинду!
– И я не слышал, чтобы кто-нибудь его за это обсволочил, – эпически заметил Гамалей.
– А чем это все кончилось? – крикнул Самвел.
– Спокойствие, молодежь, – вмешался наконец Абоянцев. – Между прочим, мы слышали с вами не пьесу…
Все разом притихли, словно там, за перилами лоджии, замаячил в густом ультрамариновом сумраке островок собственной судьбы.
– И то правда, – снова вздохнула Макася, – только когда мы туда, к ним-то, пойдем, нас навряд ли так полюбят…
– Прошу продолжить урок, – встрепенулась Сирин. – Мария Поликарповна, ваш перевод следующий. Пожалуйста, прошу. Храмовый комплекс, внутренние личные покои. Пожалуйста.
На этот раз оба голоса были мужские, говорили отец и сын.
– «Тащи, тащи – забыл про мешки, теперь что ни ступенька, то память. А то наел себе брюхо, в любимчиках ходючи!» – «Тебе бы такая любовь, когда с утра все лягнуть норовят. Благо еще, у старейшего ноги окостенели, высоко не задрать…» – «Да чтоб он тебе все по пояс отлягал, дармоед, дорос по бабам скучать, а сам…» – (Ой, дальше совсем несказуемо!) – «Так жену бы мне, отец, я бы и поворотливее стал, на колокол Чапеспа приладил бы. Ходили бы мы с тобой вместе уроки проверять, благостыней одарять…» – «Соблазняешься баб по чужим дворам щупать?» – (Ох, попереводил бы хоть Йошка, мужику не так срамно.) – «Да мне бы с моим брюхом свою, собственную…»
– Дальше непечатно и непроизносимо! – заорали хором Диоскуры.
– Мм… а дальше так: «А где я тебе собственную возьму – рожу да выращу? В дому не подросли, разве что… выкупил тут один хам себе хамочку. Да не берет к себе, чешется, на Нездешнюю обитель глядючи».
– Хм… – донеслось со всех диванов одновременно.
– Чего – хым-то? На меня загляделся, не иначе, – отпарировала Макася. – Так… «По закону, отец, ежели за обе руки дней… (десять, значит) не возьмет он ее себе в дом – храму отойдет?» – «Не распускай губы-то, не храму – Богам. Боги и распорядятся. Чапеспу и то достойней – при деле он, не при звоне». – «А я, значит, чтоб меня…»
– Непечатно, непроизносимо! – рявкнули Диоскуры.
О проекте
О подписке
Другие проекты
