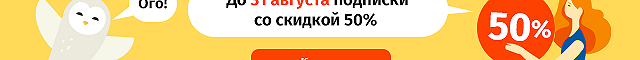
Глава 2
Озолс вернулся в воскресенье. В добротной коляске, запряженной рослой кобылой, которой правил Петерис, не спеша катил по поселку, слегка касаясь ладонью полей шляпы в ответ на почтительные приветствия. На улице было по-праздничному людно, и тем торжественнее выглядел его приезд. Крупный, гладкий, с мужицки простым, но холеным лицом, он восседал в своей коляске, гордо выпрямившись. Густые, кустистые брови придавали ему выражение властное и значительное. Что ж, полагал хозяин коляски, у него были все основания рассчитывать на особое уважение и признательность. Сам он уже давно позабыл, когда просил в последний раз взаймы. Как сейчас, пожалуй, ни за что не припомнил бы, кому он в поселке чего-нибудь не одалживал. Разумеется, не в ущерб своему добру, но все-таки... А с тех пор как стал председателем поселкового правления общества «Рыбак», власть и вес Якоба поднялись на недосягаемую высоту.
Аболтиньш, трактирщик, еще издали заметил коляску и как был в переднике, так и выскочил на крыльцо.
— С приездом, господин Озолс! Наконец-то вы дома. Как съездилось? Что нового в Риге?
Якоб небрежно махнул рукой:
— A-а! Сумасшедший дом. Шум и толкотня. А тут... Как с поезда сошел, будто в рай попал.
— Не желаете ли стаканчик с дороги?
При слове «стаканчик» Петерис жадно сглотнул, с надеждой посмотрел на хозяина. Тот понимающе усмехнулся, проговорил полушутя-полусерьезно:
— Стаканчик да рюмочка доведут до сумочки.
— Я понимаю, в Риге у господина Штейнберга наклеечки поаппетитнее, — уязвленно проговорил трактирщик.
— Катился бы он в свою Германию, господин Штейнберг. Вот полюбуйтесь, самое свежее, — Озолс протянул Аболтиньшу газету.
Тот развернул сложенный по размеру кармана лист, негромко прочел:
— Вчера по приглашению министра иностранных дел Латвии господина Мунтерса город Лиепаю с дружественным визитом посетила немецкая военная эскадра. Как заявил на пресс-конференции командующий эскадрой адмирал Бернгард...
Глаза Озолса полыхнули гневом.
— Три дня назад потопили наш пароход с лесом, а теперь хватает наглости...
— Но ведь Гитлер всюду заявляет, что он наш друг.
— Он и Литве друг. А как ловко у нее Клайпеду отхватил? Я уж не говорю об Австрии, о Чехословакии. Тут не нахальством, чем-то похуже пахнет.
— Неужели вы думаете?..
— Не знаю. Умные люди на всякий случай запасают кое-что. Сахар, крупу, спички...
— Не дай господи, — у меня в доме парень подрос.
Озолс молча достал пачку «Трафф», угостил Аболтиньша.
— А как у дочки успехи? — с удовольствием затягиваясь папироской, полюбопытствовал тот. — Поди, лучшая студентка в университете?
— Ну, может, и не лучшая... Вообще-то молодцом!
— Дай вам бог... А у нас в поселке несчастье.
— Знаю. Петерис рассказал.
Аболтиньш с беспокойством посмотрел в сторону церкви, что была неподалеку; из нее выходили прихожане. Усмехнулся:
— Старые грехи отмолили, сейчас ко мне за новыми придут.
— Хозяин, может, и нам заглянуть в храм божий? — не выдержал Петерис.
Озолс осклабился:
— У тебя что, грехов много?
— У меня?!
— Давай трогай, святой! Тебя жена ждет.
— Кого?! Меня?! — Глаза у кучера потемнели, злая судорога пробежала по лицу. Он так яростно хлестнул лошадь, что Озолс едва не вывалился из коляски. В поселке уже давно было известно, что если Эрна кого-то и ждет, то только не своего Петериса.
Артур сидел на кухне, чинил сеть.
— Поешь! — Мать поставила рядом кружку с молоком, придвинула кусок хлеба, намазанный медом. Банга отложил моток, взял кружку, задумался. Луч солнца, падавший из окна, зажег радужный узор на фаянсе. Эту кружку Артур помнил с детства: та самая, что стояла потом на поминках перед пустым стулом. Как все-таки странно и жестоко устроена жизнь: еще вчера все было по-иному — был отец, была надежда... Артур чуть не застонал от боли. Мать, словно бы прочитав его мысли, отвернулась, пошла к плите. И остановилась на полпути, увидев входившего Озолса.
— Бог в помощь, Зента! Прими мои соболезнования.
Она опустила голову, заплакала.
— Господь дает, Господь забирает, — скорбно продолжал Озолс. — Хороший был у тебя муж, по такому не грех и поплакать. И отец был хороший. — Он заметил Артура.
— Проходи, Якоб.
Озолс заковылял в комнату, волоча непослушный протез. Сейчас — не на людях, не в коляске — он не казался таким бравым. Инвалид, сутуловатый, оплывший, он грузно опустился на стул подле стола, положил на скатерть руки, большие и натруженные, сумрачно огляделся. Негромко спросил:
— Слышал, ты дом продаешь.
Зента потупилась. Ее пальцы нервно теребили передник.
— Что поделаешь, Якоб... Долги... — хотела еще что-то добавить, но в дверном проеме показался Артур.
— Погоди, мать, — хрипло проговорил он. — Насчет отцова долга не беспокойтесь, за нами не пропадет.
Озолс предостерегающе поднял руку:
— Постой, сынок, не горячись. Скажи, Зента, сколько у вас осталось невыплаченной ссуды за дом?
— Около семисот латов. И тебе триста. Вот и получается...
— Ну, между собой мы пока считаться не будем... А ссуда... Неважно у меня, правда, с наличными, да ничего... Ссуду вашу я погашу. С банком лучше не тянуть. Проценты...
До Зенты трудно доходил смысл его слов.
— Как, ты сам... наши долги?
— А ты что думала? Пришел рубашку последнюю с вас снимать? Мы же люди... Всю жизнь прожили рядом. Янка, почитай, братом был мне...
— За доброту вашу спасибо. Но мы так не можем, — самолюбиво перебил его Артур.
Озолс опять предостерегающе поднял руку:
— Я не милостыню вам предлагаю. Заработаешь — отдашь. Промысловый участок отцовский правление тебе оставит. Может, еще и прибавим немного.
— А ловить на чем?
— Лодку пока возьмешь у меня. Моторная, пятнадцатисильная. К тебе любой напарником пойдет. А зимой на озера, за карпом. Он теперь в хорошей цене. Я думаю, если каждый третий улов мой — не так уж много получится. Глядишь, постепенно и отдашь отцовский долг. Ну что, по рукам?
Артур в нерешительности помялся, но упираться не стал:
— Согласен.
— Выбирай, что лучше — расписка или вексель?
— Вексель.
Утром вдоль всего берега шла работа — рыбаки волокли к морю карбасы, загружали снасти, готовились к путине. Озолс, с погасшей трубкой в зубах, приглядывал за своей артелью. Мимо него то и дело пробегали люди — кто с веслами, кто со связкой балберов — поплавков.
— Невод куда грузить? — согнувшись под тяжестью сложенной сети, остановился рядом с ним Артур.
— Во-он в тот карбас, к Фрицису. — Озолс неодобрительно посмотрел на парня: — Чего один надрываешься? Помочь некому?
— Да мне — раз плюнуть! — молодецки крякнул Банга и, стараясь держаться прямо, пошел к лодкам.
— Заботу показываешь? — желчно бросил подошедший Калниньш. — Теперь можно — вексель-то выхватил!
Озолс обернулся, раздраженно бросил:
— Все ты мечешься, как ужаленный. Суешься в каждую дырку... Нехорошо.
— Нехорошо? — сузил глаза Калниньш. — А людей одурачивать, с голого последнюю рубаху снимать — хорошо?
— Послал бы я тебя... Надоело, понимаешь? Давай хоть раз потолкуем по-человечески.
— С тобой толковать!..
— Нет уж — давай! — Озолс ухватил Калниньша за рукав. — Сядь-ка. — Первым опустился на борт дырявого карбаса, достал портсигар — там было пусто. Калниньш, не глядя, протянул свои папиросы. Задымили.
— Ты вот векселем меня попрекнул, — пыхнул дымком Озолс. — А я, между прочим, его не тянул, они сами...
— Ясно — сами, — перебил Калниньш. — Ты знал, на какую наживку ловить. Как же — гордые, честные...
— Правильно, честные. А ты хотел, чтобы сын отцов долг замотал? С обмана жизнь свою начал?
— Да какой долг? Какой? Янка на тебя девять лет горбатился. Да он втрое свой долг отработал. — Калниньш уперся в Озолса требовательным взглядом.
— Ну, знаешь, так рассуждать... Может, по-твоему, еще я ему должен? Они не то что вексель — дом хотели продать, чтобы рассчитаться. Другой — тот же Аболтиньш, к примеру, стал бы церемониться? Ну-ка, скажи?
Калниньш промолчал.
— То-то! А я и парня к делу пристроил и кусок хлеба в руки дал. Да еще с банком за них рассчитался. Мало?
— Благодетель... Из отца душу мотал, теперь на сыне покатаешься.
— Да что ты все к той бумажке цепляешься? Бумажка, бумажка... Может, я про нее и вовсе забуду.
— Ты-то? — Калниньш скривился в злой усмешке. — Пожалуй, забудешь.
— А тебе хотелось, чтобы у меня память и вовсе отшибло? — тихо, с придыханием спросил Озолс. — Ну а мои долги кто вернет?! Вот эту самую... — Он зло хлопнул себя по протезу. Много мне потом помогли? На чурбак этот скинулись? Так-то, сосед, — чужое легко считать. А как оно досталось — слезами ли, кровью... А! — Озолс махнул рукой и заковылял по песку.
Лодки, одна за другой, отходили от берега. Море, по-утреннему тихое, стелилось зеркальной гладью. Далеко над заливом разносились веселые, зычные голоса рыбаков — те перекликались, перекидывались нехитрыми шуточками:
— Эй, Друкис, невод забыл!
— Где?
— У бабы под кроватью. Греби обратно, а то, глядишь, кто другой утащит, — дружно орали с соседней посудины.
Артур заметно нервничал: то схватится за плицу[2], то слани[3] поправит...
— Что ты мечешься, как Аболтиньш по трактиру? — не выдержал сидевший на руле Фрицис Спуре.
— Я? — вспыхнул Артур. — Так я же... это...
— Он же... это... — передразнил Лаймон. — Службу показывает. Думает, Озолс зятька будущего с берега увидит.
— Помолчи, Лаймон, — оборвал Фрицис. — А ты, сынок, спину-то побереги. Хоть она у тебя, видать, крепкая, да не таких здесь обламывали. Работаешь — и работай!
Артур поймал насмешливый взгляд Лаймона, недовольно насупился.
Летним солнечным днем по дороге, обсаженной высокими вязами, катила добротная Озолсова коляска. Она только что отъехала от станции — паровозный свисток и шум отходящего поезда ненадолго заглушил цокот копыт. В повозке, среди груды коробок и лакированных чемоданов сидела девушка. В свои девятнадцать Марта Озолс была удивительно хороша и, что случается нечасто, почти лишена кокетства. Но именно эта серьезность и придавала облику девушки особую, благородную прелесть. Серый, элегантно простой английский дорожный костюм очень шел ей.
— А пруд? За мельницей, где ивы? — расспрашивала она Петериса. — Не построили еще там новую купальню?
— За мельницей? — задумчиво переспросил возница. — Туда как раз на прошлую Пасху мельник свалился. От Круминьшей шел.
— Утонул?
— Как же, утонет! Теща с женой откачали. А он, как очнулся, — таких фонарей им навешал. Неделю синяки мукой присыпали.
Марта, отвыкшая от грубых деревенских нравов, только пожала плечами. Но, помолчав секунду, снова спросила:
— Петерис, а где сейчас танцуют? Как и раньше, у Аболтиньша?
— Во-во, там его шурин после и подстерег, в трактире. И, значит, бутылкой... По башке.
— Кого?
— Да мельника же! За сестру, значит. Все так и ахнули — бутылка вдребезги, а башка хоть бы что. Только шишка вскочила.
— Какой ты странный, Петерис, — городишь всякую чепуху.
Впрочем, будь она повнимательней, ход рассуждений кучера не так удивил бы ее — время от времени Петерис доставал из-за пазухи фляжку и понемногу прикладывался.
— А как Бирута? Замуж еще не вышла за Лаймона?
— Бирута? Это Фрицисова дочка, что ли? — Зариньш захихикал. — Тут, я вам доложу, барышня, такая история вышла. У них — аккурат под Рождество — свинья опоросилась. Заходят, значит, в сараюшку, а там...
Финал истории со свиньей остался неизвестным. Лошадь вдруг шарахнулась — мимо них, громко сигналя, промчался ярко-красный автомобиль с откинутым верхом. Водитель, молодой человек в спортивном кепи, мельком взглянул на Марту и, не то извиняясь, не то приветствуя, слегка наклонил голову. На его продолговатом, с тонкими чертами лице аристократа резко выделялись хищный нос и сочные, чувственные губы.
— Кто это? — спросила Марта, удивленно разглядывая удаляющийся автомобиль.
Петерис, раздраженно шваркнув вожжами по крупу лошади, ответил почти трезвым голосом:
— Катаются. А чего не кататься, когда денег куры не клюют? Лосберг это, молодой. Приехал давеча из Германии.
— Они по-прежнему на своей даче?
— А где же еще?..
К ее приезду пеклись пироги. Ядреная краснощекая кухарка ловко таскала их из духовки, месила тесто для новых. Озолс, приодетый, толкался на кухне, поглядывая на прислугу.
— Ох, Эрна, гляди, прогонит тебя Петерис, такую растяпу, — шутливо попрекнул он за упавшее на пол яйцо. — Дома, поди, яички-то бережешь. Мужнее добро...
— Мужнее... — Кухарка брала яйца из огромной корзины, небрежно разбивала их в тесто. — На мужнем разживешься...
— Однако разжилась. Или не на одном мужнем? Свет-то не без добрых людей? — Якоб следил, как Эрна сажала пироги в духовку и, нагнувшись, белела толстыми икрами.
— А тебе жалко, что разжилась? Говорят, мужики сдобных-то лучше уважают.
— У тебя уж не сдоба... — прищурился Озолс, алчно созерцая мощную корму. — Целый каравай!
— Озорник ты... — Эрна кокетливо одернула юбку. — Седина-то, говорят, в бороду...
Лицо Озолса вдруг изменилось — будто и не лоснилось только что похотливо. Словно душа — любящая, тревожная — проглянула сквозь щелки глаз.
— Марта, доченька... — бросился он из кухни, впопыхах опрокинув корзину с яйцами.
— Ну и ну! Яичком попрекнул, — сокрушалась кухарка над глазуньей, расплывшейся на полу.
Весело возвращалась артель с удачного лова. Карбасы чуть не доверху серебрились трепещущей рыбой.
— Давай, Друкис, жми, пока Аболтиньш замок не повесил.
— Не повесит. Он свое за пять верст чует. — Марцис подкинул на ладони увесистую рыбину.
— Артур, что притих? С новенького, учти, двойной спрос.
— Тоже мне — гуляка. Да он сроду в трактире не был. Все за книжками. Капитан!
— Нашел чем попрекнуть, — обрезал Марциса Спуре. — Сам-то хоть расписаться умеешь?
Артур хотел было ответить насмешнику, но вдруг замер, глядя на берег: там мимо развешанных сетей — он узнал ее сразу — медленно шла Марта. С детства ей помнился их терпкий запах — отдавало водорослями, морем, рыбой. Ветер раскачивал сети, теребил застрявшие в ячейках травинки. Она остановилась на краешке песчаной косы, с ожиданием глядя в море.
Карбасы один за другим подходили к берегу. Над ними с пронзительными криками сновали чайки. Не утерпев, Артур выскочил из лодки — благо сапоги чуть не до пояса — и в тучах брызг бросился по мелководью к берегу. Она — навстречу. Остановились, не добежав шага. Короткие, кажущиеся незначительными фразы обрубало волнение.
— Марта! Ты когда приехала?
— Утром еще. Не ждал?
Он не ответил, только радостно смотрел девушке в глаза.
— А я давно здесь жду... Была у твоей мамы... Я же ничего не знала...
Артур молча опустил голову. Она осторожно взяла его большую, твердую ладонь, еле заметно сжала. Почувствовав нежное тепло ее пальцев, парень словно оттаял.
— Надолго?
— Думаю, на все лето.
С лодок уже сгружали рыбу. Огромными деревянными совками черпали живую, шевелящуюся массу, ссыпали в плетеные двуручные корзины. Женщины грузили их на стоящую прямо в воде телегу. И над всем этим — над карбасами, над лошадью, над людьми — белой тучей носились чайки, выхватывая рыбу чуть ли не из рук. Кто-то не выдержал, укорил парня:
— Артур, лодырь чертов! Хоть бы подсобил.
— Оставь. Все равно не слышит, — усмехнулся Калниньш.
— Очумел, что ли?
— Они оба очумели. С пеленок еще.
Озолс все слышал и видел. Он недовольно поморщился, шагнул к молодым людям.
— Слушай, там Марцис карбас разгружает. Один.
— Да, иду, — виновато ответил Артур и заспешил к лодке, на ходу еще раз обернувшись к Марте.
Якоб посмотрел на босые ноги дочери, брошенные на песок туфли, покачал головой:
— Море еще холодное, дочка. И песок тоже.
Марта не ответила. Подняла туфли, пошла. А отец заковылял навстречу телеге. Достав из корзины мелкую рыбешку, швырнул ее обратно:
— Где такой мелочи набрали? Учти, по двадцать сантимов — дороже не протолкну.
— Вчера по тридцать за ящик давали, — рассердился Калниньш.
— Цены устанавливает Рига. Центральное правление. Я ими не командую.
— Ты нам зубы не заговаривай. Центральное правление... Знаем мы твое правление. Дай вам волю...
— Ну что ты за человек, Калниньш? Да кому нужна эта дохлятина? Рынок переполнен. Скажи спасибо, если на рыбзавод протолкнуть удастся.
Калниньш от неожиданности остановился, смерил Озолса ненавидящим взглядом:
— Мы тебе такое спасибо скажем... Ты у нас еще допрыгаешься... Пригрелся на берегу — ни холодно ни мокро.
— А ты забыл, почему я на берегу?
— Пошел-ка ты...
— Нет, ты все-таки ответь.
— Да пошел же, я тебе говорю! — Калниньш настолько недвусмысленно замахнулся, что Якоб невольно отступил в сторону.
— Будь ты проклят! — в сердцах проговорил он и торопливо заковылял к складу, подле которого стоял грузовик с надписью на борту «Акц. об-во “Рыбак”». С него сгружали пустые ящики, кто-то возился с весами.
Стройный корвет, сверкающий белизной парусов, казалось, парил над волнами. Артур задумчиво, с грустью смотрел на маленький кораблик. Рядом стояло еще несколько моделей — его скромная коллекция. Полка с книгами по навигации, старинный секстант, морская карта — атрибуты несбывшейся мечты. Он поправил на модели бизань, снял с вешалки свой форменный китель, смахнул с него пылинку и, надев фуражку, шагнул было к выходу. Но в этот момент в комнату вошел Лаймон.
— Хорошо, что застал тебя дома. Пошли!
— Куда?
— Наши собираются, разговор есть. Как ты считаешь — это честная торговля, если у нас салаку берут по двадцать сантимов за ящик, а продают, знаешь, за сколько? Почему Озолс на это закрывает глаза?
— А что он может сделать? — пожал плечами Артур. — Цены устанавливает центральное правление.
— Тогда зачем мы его выбирали, если он ничего не может? Или не хочет? Держится за свое местечко, с Ригой ссориться не желает. Значит, своя выгода есть.
— Не знаю.
— Вот и я не знаю. Никто его фокусов не может понять. Об этом и разговор. Пошли!
Артур задумчиво вертел на пальце фуражку.
— Не пойду, — смущенно сказал он.
— Та-ак, — протянул Лаймон. — Значит, всю жизнь будешь отплясывать перед ним за свой долг. А может, еще причина есть?
— Думай, что говоришь, — нахмурился Артур.
— А ты-то думаешь, что Озолс мечтает с тобой породниться? — Лаймон хмыкнул, круто повернулся и с треском захлопнул за собою дверь.
О проекте
О подписке