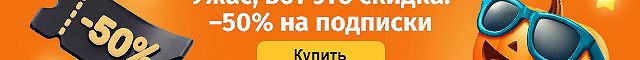
Часть вторая
– Чего тебе неймется?
Приора с утра одолевала тяжкая головная боль. Хотелось закрыть ставни, положить на лоб смоченный в уксусе полотняный лоскут и хоть полчаса подремать в неудобном деревянном кресле. Но брат Фергус спозаранку притащил к нему своего несносного подопечного и сейчас высился у двери, сверля спину мальчишки хмурым взглядом.
А мальчишка словно не заметил изможденного приорского лица и красноватых больных глаз:
– Я прошу позволить мне снова пойти к осужденному, – горячо проговорил он.
– Зачем?
– Но он же будет казнен, отец Годвин! Пусть он не хочет исповедоваться, нельзя же просто бросить его там, в темноте, в одиночестве! Ему ведь даже света не дают, где ж ему раскаяться, когда весь мир его ненавидит!
Приор поморщился: даже голос послушника сейчас казался ему пронзительным и ранящим. А тот шагнул ближе к столу:
– Отец Годвин… Я же вижу, вам нездоровится.
"Все он заметил", – мелькнула у приора бесполезная мысль, а послушник продолжал:
– Я вовсе не хочу докучать вам. Просто разрешите мне после большой мессы приходить к его каземату и молиться. Брат Фергус сказал – другие заключенные боятся его. Так пусть слышат, что они под защитой Господней. А он… кто знает, вдруг я сумею тронуть его. Ведь хоть какая-то душа у него все же есть… А вы сами сказали – я будущий исповедник! Вы не могли забыть!
Брат Фергус молчал, стискивая зубы и раздраженно выдергивая нитки из кромки рукава. Никто из братьев бенедиктинцев не разговаривал так с отцом Годвином… Пусть давно кануло прежнее могущество Вестминстерской епархии, и ненасытная, непоследовательная династия Тюдоров то обирала аббатство до нитки, то бросалась извиняться и осыпать дарами, то снова дергала удила и грубо напоминала, кто тут главный1. Но отец Годвин, стоящий на страже последних ценностей прежнего уклада, был почти святым в глазах осиротевших братьев, и благоговение перед ним казалось залогом того, что дух былого монашества неистребим.
И только юный Китон, воспитанник одной из последних монастырских школ Лондона, не умел быть почтителен. Приведенный лично отцом Годвином из приюта, он испытывал к бывшему настоятелю горячую и преданную любовь, столь явно сыновнюю, что всякая субординация попросту не помещалась в ней. Брат Фергюс не сразу смог разобраться в природе этой искренней привязанности. Однажды на правах наставника он прямо спросил Китона, отчего тот ведет себя с приором неподобающе. На что послушник столь же прямо ответил:
– Отец Годвин – самый честный из всех известных мне людей. Ему ни к чему все эти ужимки, и подобострастия ему не надо. Господь такой же, брат Фергус, я уверен.
И Фергус, уже готовый осадить нахального новиция, почему-то промолчал.
Вот и сейчас он также молчал, слушая, как мальчишка упрашивает отца Годвина позволить ему таскаться к ожидающему казни чародею и выискивать в черной бездне его души последние лохмотья истлевшего Божьего замысла. А измученный приор повел ладонью, словно отгоняя комара:
– Хватит лопотать, Китон, ты меня с ума сведешь. Хорошо. Твоя затея бессмысленна, но угодна Господу. Только не забывай – он страшный человек. Не дай ему опутать тебя своей ложью, дитя.
Послушник выпрямился, бледнея от волнения:
– Я умею противостоять лжи, отец.
– Я знаю, – мягко кивнул старый бенедиктинец, – только поэтому и разрешаю. Ступай, да умудрит тебя Господь.
Выходя из пропахшей сургучом и свечным чадом каморки, Китон услышал, как идущий следом брат Фергус пробормотал:
– Сумасшедший.
***
В Соляной башне темнело рано. С Темзы доносился зябкий бриз, пахнущий лодочным дегтем, рыбьей требухой и самую малость отхожим местом. Огонь полагался лишь заключенным дворянского или же церковного сословия, а потому Хью Дрейпер уже привык проводить долгие часы в темноте, слабо рассеиваемой тусклым отсветом караульного факела в коридоре. Откуда-то несся псалом, исполняемый одиноким, чуть задыхающимся голосом.
"Грудью болен, – машинально отметил про себя Хью, – и скоро станет совсем плох. Жаль, поет-то как душевно".
Отерев руки о грязную рубаху, он снова обмерил пальцами каменную кладку стены и заскрежетал долотом. Он уже не знал, нужно ли спешить, но продолжал работу с усталым упорством, занимая этим кропотливым трудом бесконечные дни и спасаясь им от все больше завладевавшего им отчаяния.
Ему удалось поработать недолго: снаружи послышались шаги часового, и яркие блики фонаря заплясали по стенам. Неужели сейчас потащат на допрос?
Но шаги часового уже громыхали прочь, а фонарь ослепительным глазом заглянул в зарешеченное окошко двери:
– Мастер Хью! – окликнул фонарь, – вы не спите?
Узник проворно сунул долото под тюфяк и озадаченно уставился на сияющий квадратик окошка. Это снова был он… Тот странный мальчуган, Китон, что приходил к нему на днях. То ли послушник, то ли церковный певчий, шут его разберет.
Дрейперу давно осточертели клирики, что тянулись к его узилищу. Он видел их всех, и ни один не подошел ему. Сначала он недоумевал их упорному желанию исповедать его, но вскоре понял: святым отцам тоже не чужд азарт. Принять покаяние от злодея столь знаменитого, что его сочли достойным заточения в Тауэре, несмотря на плебейское происхождение, стало чем-то вроде вопроса престижа. Поначалу это забавляло узника, и Хью мелочно развлекался, отказывая очередному претенденту на содержимое его душевных закромов. Потом подкралась неуверенность: месяцы шли, а нужного исповедника все не было… Одни были излишне тучны, другие – малорослы, третьи чересчур стары. Потом стало страшно: уже позади была Пасха, катился к концу апрель, день казни близился, и вереница монахов иссякла, а он так и не нашел подходящую жертву, и Хью уже думал, что зря привередничал – минимум двое могли, хоть не без греха, сгодиться. Вспомнить бы их имена…
И тут появился этот мальчик.
Он не подумал лезть к заключенному с душеспасительной чушью, не настаивал на исповеди с жадным любопытством зеваки, не цедил слова со смесью страха и брезгливости. Он отчего-то попросил посмотреть на Хью и сам с отроческим бесстрашием сорвал куколь, а потом долго и требовательно вглядывался в узника, будто силясь прорваться в горячую и темную сердцевину чародейской души. А Дрейпер также неотрывно смотрел в юное лицо со слишком взрослыми, тревожными глазами и чувствовал – все пропало. Ему никогда не воплотить своего замысла. Потому что вот он, тот самый, кого он так долго искал. Подходящий как нельзя лучше – даже тонзура еще не выбрита, и непослушные темные волосы, примятые куколем, тускло блестят в свете фонаря. Но он не сможет. Просто не сможет принести этого мальчика в жертву своему спасению. Это же совсем ребенок…
Тогда он тихо отступил от решетки и долго сидел во мраке у стены, безучастно слушая, как брат Китон читает молитвы. Совсем не по-монашески – распевно и монотонно, а как-то по-своему, печально и раздумчиво, удивительно уместно для владеющей Дрейпером тоски.
А сегодня мальчик пришел снова, как и в прошлый раз, неуклюже тыча фонарем в зарешеченное окошко и рискуя опалить рукав рясы.
Хью с усилием поднялся на порядком занемевшие ноги и подошел к двери:
– Чего вам, брат Китон? – устало спросил он, а послушник уже стягивал с головы покров, словно нарочно стремясь снова всколыхнуть в узнике острозубое отчаяние. Боже, как же подходил этот парнишка…
– Я просто пришел помолиться за вас, – отрезал Китон, не понижая голоса, а потом отставил фонарь, шагнул вплотную к решетке и прошептал:
– Да не нужны вам молитвы! И казни вы не боитесь! Я пришел к вам. Прошу вас, не прячьтесь обратно в этот ваш жуткий склеп, поговорите со мной!
– Я все сказал еще на первом допросе, – спокойно ответил Дрейпер, внутренне изнемогая от желания послать парня к дьяволу и прокричать ему вслед несколько алхимических формул на латыни, чтоб тот счел себя проклятым и не вылезал из часовни до самой Троицы. А юный олух грохнул фонарем об пол и схватился обеими руками за решетку:
– Я знаю. Все знают. Сплетники Лондона уже истрепали ваше имя в лоскуты. На рынке в Саутворке у каждого лотка только и судачат, что вы во всем сознались, что сожгли алхимические книги, что в доносе на вас сказано о вашем колдовском гримуаре, который вы никогда не уничтожили бы сами, а потому он якобы где-то есть, и его нужно найти, и только поэтому вас все еще не казнили. Но мне нет дела до слухов… Мастер Хью, прошу, ответьте всего на один вопрос! Как вам открылось, что вы чародей? Это страшно осознать?
Дрейпер молчал, глядя во взволнованное лицо послушника, блестящее глянцем пота. Потом покачал головой:
– Брат Китон, вы уже не дитя. Вам наверняка не меньше семнадцати…
– Мне скоро девятнадцать!
– Тем более. Вы грамотны, у вас очень правильное произношение на латыни – значит, это не зазубренные наизусть молитвы, вы понимаете каждое слово. Так почему вы верите обывателям? С чего вы взяли, что я настоящий чародей? Мало ли у осужденного причин для самооговора? Да и били меня с душой…
– Чушь! – оборвал послушник, – я видел с полдюжины фальшивых чернокнижников, десятки избитых, запуганных людей, а уж лжецов – так и вовсе без счета! Но вы не лжете. И стыдиться вам нечего, потому вы и не стали выкручиваться. Вы настоящий чародей, я знаю!
Хью усмехнулся:
– Откуда у трактирщика колдовской гримуар?
– А откуда трактирщик знает, каким должно быть произношение на латыни?
На сей раз Дрейпер молчал дольше, глядя на Китона задумчиво и оценивающе.
– У вас было непростое детство, а, брат? Иначе откуда такая проницательность?
– У меня было лучшее в мире детство, – отрезал послушник, и голос оскользнулся, будто на обледенелой кромке, – только закончилось оно слишком быстро.
Он отнял руки от решетки, отирая ладонью пот. На щеке остался смазанный след ржавчины.
– Мое искусство – это не дар, брат Китон, – вдруг мягко проговорил Дрейпер, – это мастерство, которому я обучился также, как запекать на вертеле барашка. Никакого божьего промысла. Лишь природная склонность и большое усердие. Вот и весь секрет.
Китон облизнул губы, заметно бледнея:
– И вы… никогда не считали это грехом? Сатанинским искусом?
– Никакое умение не может быть грехом по сути своей, – в спокойном тоне Хью мелькнула нота раздражения, – любое ремесло можно обратить во вред, из любого навыка можно сделать благо. И нечего все валить на Сатану. Это люди из чего угодно способны состряпать грех. Кабы не этот людской талант – Сатана бы с начала времен сидел без дела да каштаны в адском пламени жарил. К нашим дням он бы уже так растолстел и обленился, что само слово "грех" давно забылось бы.
Послушник отвел глаза, растерянно зашарил ладонью по грубошерстному вороту рясы, от которого на шее виднелась заметная красноватая полоса.
– Погодите… – пробормотал он, – а как же алхимия? Я слышал о философском камне, дарующем бессмертие… Но бессмертен лишь Господь! Не это ли грех, пытаться стать подобным ему?
– Китон, Китон… – Дрейпер тоже машинально схватился за решетку, – это лишь сарацинское слово "аль химия", занесенное в Европу почти девять сотен лет назад! Оно так же безобидно, как слова "репа" или "зяблик"! Сама наука называется "химия", и без нее не было бы ни мыла для тела, ни осмолки для факелов, ни краски для одежды, ни вина, ни извести, ни святой воды!
– Причем тут святая вода? – пролепетал смятенный Китон, а чародей ударил по решетке ладонью:
– При том, что для освящения воды в нее следует класть серебряное распятие, и серебро, испуская в воду малые частицы, очищает ее и делает целебной! Еще до серебра, в незапамятные времена в святую воду добавляли соль, а при папе Григории Первом – вино и пепел, и все это имело лишь одну цель: сделать воду чистой и полезной для тела. Вот, для чего существует химия, и сотни ученых братьев во все времена изучали ее, дабы спасать людей, а вовсе не тягаться с Господом в долголетии!
Эхо голоса Хью растворилось под сводами Соляной башни, и повисла тишина, тяжкая и душная, как отсыревший плед.
– Где вы всему этому научились? – прошептал послушник.
– Здесь, в Лондоне, – после короткой паузы горько усмехнулся Дрейпер, – только Боже вас упаси оказаться в лапах моих учителей.
Китон же вскинул на него глаза, блестящие то ли от факельного чада, то ли от слез:
– Я бы все отдал, чтоб оказаться там. Чем они меня напугают? Поркой? Голодом? Всенощными в холодной часовне? Плевать я на все это хотел!
Дрейпер умолк и вдруг улыбнулся так тепло и печально, что у Китона на миг нехорошо защемило что-то внутри.
– Брат Китон, – тихо окликнул чародей, – в прошлый раз вы предлагали сходить к моей семье. Буду признателен, если вы действительно навестите моих домашних и передадите несколько слов жене.
И послушник несмело улыбнулся в ответ:
– Да, мастер Хью, конечно…
О проекте
О подписке
Другие проекты