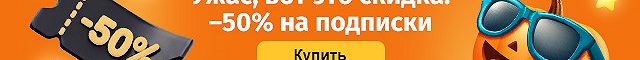
Упоминания о набоковском «двоемирии» как российскими, так и зарубежными исследователями[60] настолько многочисленны, что уже стали восприниматься чуть ли не как общее место. Его генезис, как правило, усматривают именно в романтическом[61] или же символистском двоемирии[62]. Впечатляющее количество работ, касающихся данной проблематики, позволило А. Долинину сделать следующее обобщение: «Истоки набоковского двоемирия, как установили исследователи, лежат в поэзии и философской мысли европейского романтизма, в русском и французском символизме, в идеях "творческой эволюции" у Бергсона, "мира как театра" у Н. Евреинова и "четвертого измерения" у П. Д. Успенского» (курсив мой. – Н. К.)[63]. На основе этого вывода может сложиться мнение, что проблема уже досконально изучена. Однако на деле не все столь благополучно: сами авторы, указывающие на романтические корни набоковского двоемирия, за редким исключением лишь констатируют эту генетическую связь как факт[64]. Притом что серьезного сопоставительного анализа моделей двоемирия у Набокова и романтиков практически не проводится, время от времени появляются работы, детально рассматривающие художественное мышление писателя в связи с традицией символизма[65]. Отсюда неизбежно проистекают трудности уже другого плана: романтические и символистские источники набоковской метафизики перестают различаться, фактически уравниваясь друг с другом[66]. Безусловно, между художественными системами романтизма и русского символизма чрезвычайно много общего, однако отождествлять эти явления все же нельзя – хотя бы потому, что символизм, конечно, не мог пользоваться наследием романтической эпохи, не переработав его творчески и не адаптировав его к новым культурно-историческим условиям. Некоторые вопросы эстетики и художественной практики символисты были склонны решать уже иначе, чем романтики. Неудивительно в этой связи, что и модель символистского двоемирия в каких-то ее аспектах принципиально отличается от романтического варианта. «Второй мир романтиков, – замечает Г. Храповицкая, – мыслился как вечно зовущий голубой цветок, достижимый, как достижимо соединение параллельных прямых в бесконечности. Двоемирие символистов не предполагает такого соединения»[67]. Поэтому особую важность приобретает выявление и разграничение романтического и символистского пластов в набоковской модели реальности. В то же время при анализе любых элементов текста необходимо учитывать опосредующую роль символизма в преломлении романтической традиции у Набокова.
Сознавая объемность поставленных задач, в пределах данной книги мы намеренно ограничиваем рамки исследования русскоязычной прозой Набокова, привлекая в отдельных случаях материал лирических жанров и периодически ссылаясь на произведения американского периода. При этом в центре анализа оказываются романы «Защита Лужина» (1929) – по мнению целого ряда исследователей, первый зрелый роман Сирина[68] – и «Приглашение на казнь» (1934), признанная вершина набоковского мастерства. Именно их можно считать некими представительными примерами, ярко демонстрирующими как саму очевидность обращения писателя к романтической традиции, так и характерные направления ее переработки. Хотя за основу берется типологический метод исследования художественных текстов, зачастую появляются весомые предпосылки для сравнительного подхода к материалу. Как проницательно заметил в свое время И. П. Смирнов, «историко-типологическая интерпретация произведения и классический сравнительный подход находятся в отношении взаимной дополнительности и корректируют друг друга»[69].
* * *
Прежде чем начать разговор о романах Набокова, необходимо сделать несколько беглых замечаний, касающихся отражения романтической традиции в его поэзии. Принято считать, что именно лирика служит своеобразным введением в мастерски отточенную набоковскую прозу (большая часть стихотворений написана писателем до 1930 года)[70]. При этом уже самые первые критики Сирина склонны были отмечать откровенно вторичный характер текстов молодого поэта, часто упрекая его в очевидной подражательности и несамостоятельности творческого мышления[71]. Несколько реабилитирует будущего мастера сама природа межтекстовых отношений в поэтическом пространстве, где интертекстуальные связи приобретают качественно иной характер, нежели в прозе. Любой стиховой мир оказывается априори менее индивидуализирован, будучи задан не только оригинальным поэтическим сознанием и языком лирического субъекта, но и системой неизбежных ограничений, реализующихся как на метрико-ритмическом, так и на синтаксическом и лексико-интонационном уровнях – в частности, в виде воспроизведения неких устойчивых структур и формул, обозначенных М. Л. Гаспаровым как «языковой интертекст»[72]. С другой стороны, именно по этой причине говорить о своеобразии творческой рецепции и переработки литературных источников в рамках демонстративно традиционного поэтического идиостиля становится сложно. Все сказанное предполагает максимальную осторожность при определении функционирования узнаваемых романтических мотивов и образов в поэзии Набокова, заставляя здесь ограничиться самыми общими и предварительными наблюдениями.
Отсылки к романтической традиции обнаруживаются уже в дебютном юношеском сборнике Владимира Набокова, озаглавленном «Стихи» и удостоившемся едких отзывов со стороны маститых писателей и критиков[73], чью правоту впоследствии признавал и сам автор: «Спешу добавить, что первая эта моя книжечка стихов была исключительно плохая, и никогда бы не следовало ее издавать. Ее по заслугам растерзали те немногие рецензенты, которые ее заметили» (V, 290–291). Не оспаривая ученического характера этих текстов, отметим тот факт, что, используя в стихотворениях большей частью характерную символистскую мотивику и образность, эпиграфы к сборнику Набоков берет именно из европейских романтиков – А. де Мюссе (одного из любимейших его авторов в ранние годы[74]) и в В. Вордсворта[75]. Этот факт служит своеобразным сигналом, подчеркивающим важность культуры романтизма для юного поэта и указывающим на осознание им романтических корней собственной творческой генеалогии.
Следующие поэтические сборники Сирина – «Гроздь» (1923) и «Горний путь» (1923) – хотя и фиксируют уже более самостоятельный статус слова, также обнажают «переимчивость»[76] авторской манеры. Набоков каждый раз как бы «рядится» под определенную стихотворную традицию, используя характерные приметы стиля и образности сразу нескольких художников или поэтических направлений. Среди них на первом плане уже не только поэзия символистов (прежде всего А. Блока), но и творчество таких авторов, как И. Бунин, А. Фет, А. Майков, а также лирика романтической поры – отчетливо звучат интонации и мотивы Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Тютчева[77]. В цикле, написанном на смерть Блока, – «За туманами плыли туманы…» (1921) – душу ушедшего из жизни певца Прекрасной Дамы встречают в раю Пушкин, Лермонтов, Тютчев и Фет – главные ориентиры Набокова-лирика: традиции каждого из этих поэтов по-своему преломляются в его художественном мире.
Так, в «Горнем пути» автор подхватывает характерную для Пушкина тему свободы и независимости творца, при этом близость образа творца романтической традиции приобретает у Набокова еще более выраженный характер. В качестве эпиграфа к книге, посвященной памяти своего отца В. Д. Набокова, он выбирает строки из знаменитого «Ариона» (1827), целый ряд его текстов насыщен реминисцентными отсылками к этому и другим «мессианским» стихам Пушкина. В стихотворении «Поэт» (1918), утверждая право художника на свободу творческого самовыражения, провозглашая уникальную ценность и неповторимость собственного поэтического мира, Набоков предлагает оригинальный вариант классической темы бессмертия поэта:
Я в стороне. Молюсь, ликую,
и ничего не надо мне,
когда вселенную я чую
в своей душевной глубине.
То я беседую с волнами,
то с ветром, с птицей уношусь
и со святыми небесами
мечтами чистыми делюсь.
(I, 480)
Контаминируя главным образом мотивы различных пушкинских произведений о поэте («Поэт» (1827), «Арион» (1827), «Поэт и толпа» (1828), «Поэту» (1830), «Из Пиндемонти» (1836)), Набоков одновременно заставляет читателя вспомнить и лермонтовский извод темы поэта-пророка[78]. Сквозь словесную ткань другого, чуть более позднего стихотворения под тем же названием («Он знал: отрада и тревога…» (б. д.)) неявно проступают образы поэмы «Демон»; художник слова наделяется чертами, неожиданно сближающими его с титаническим героем Лермонтова:
Но от забвенья до забвенья
ему был мир безмерно мил,
и зной бессменный вдохновенья
звуковаятеля томил.
На крыльях чудного недуга,
летя вдоль будничных дорог,
дружил он с многими, но друга
иметь он, огненный, не мог!
(I, 540–541)
Если говорить о жанровом своеобразии набоковской лирики, то поэт нередко обращается к жанровым моделям, традиционным для эпохи начала XIX века, – воспроизводя, в частности, структуру элегии с учетом ее романтических и предромантических модификаций («На сельском кладбище» (1922), «Элегия» (б. д.)). В стихотворении «Звени, мой верный стих, витай, воспоминанье!..» (б. д.) и сами образы, и интонация открыто наследуют элегической топике Жуковского, Батюшкова, Вордсворта, Кольриджа. «Старушка мирная с корзиною плетеной»; «крик сельских петухов и мерный шум плотины»; «в лучах, над избами, горящий крест церковный» (I, 469–470) – все это привычные атрибуты элегического мира в его сентиментально-идиллическом варианте. Однако специфика изображаемой картины в том, что она явно создается как плод поэтического воображения, способного задавать конструируемому миру какие угодно рамки: «Пусть снова будет май, пусть небо вновь синеет» (I, 469). Показательно, что уже в самых ранних своих сочинениях Набоков провозглашает романтический тезис о примате художественной реальности над эмпирической. При этом важно, что сама эмпирическая реальность не отвергается поэтом, однако искусство выступает той преображающей силой, которая открывает заложенную в ней божественную сущность:
Так мелочь каждую – мы, дети и поэты,
умеем в чудо превратить,
в обычном райские угадывать приметы,
и что ни тронем – расцветить…
(I, 446)
Помимо элегической формы, Владимир Набоков в стихах конца 1910-х – 1920-х годов обращается к популярному у романтиков балладному жанру. Если традиционные рамки элегии поэт стремится расширить, наполнив их оригинальным содержанием, то произведения, манифестирующие балладные признаки, носят в большей степени характер стилизации. Для них характерен ролевой лирический герой, принадлежащий к балладному миру. Таковы, например, стихотворения, отсылающие к реалиям баллад Жуковского, – «Пьяный рыцарь» (1921), с характерной для родоначальника русской баллады средневеково-оссиановской тематикой, или «Святки» (1924), где воспроизводятся мотивы и образы «Светланы»:
Под окнами полозья
пропели, – и воскрес
на святочном морозе
серебряный мой лес.
Средь лунного тумана
я залу отыскал.
Зажги, моя Светлана,
свечу между зеркал.
(I, 562–563)
С поэтами эпохи романтизма – как, разумеется, и с символистами (снова отметим, что четко разграничить две эти линии влияния порой очень трудно) – Набокова сближает и обращение к теме двоемирия, дуалистические представления о бытии. Здесь речь идет в первую очередь о рецепции творческого наследия Тютчева, поэзия которого, по замечанию О. Дарка, близка набоковской тем, что движется постоянными противопоставлениями («день» – «ночь», «утро» – «вечер», «горы» – «долина», «море» – «земля», «юность» – «старость», «жизнь» – «смерть»)[79]
О проекте
О подписке
Другие проекты
