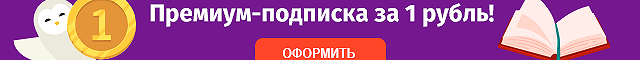
Разорение Москвы ханом Батыем, 1238 год
Лаврентьевская летопись
До конца XII столетия о Москве в летописях упоминается эпизодически, город лишь «по касательной» участвовал в политических играх государства – так, например, под 1175 годом сообщается, что князья Михаил Юрьевич и Ярополк Ростиславич останавливались в Москве на переходе из Чернигова во Владимир, а в 1177 году город сжег князь Глеб Рязанский. Затем город вообще словно исчезает из истории – и возникает вновь уже в страшные для Руси 1230-е годы, когда русские города один за другим погибали под натиском воинов монгольского хана Батыя (хотя заметим, что близлежащие к Москве города не раз были в поле зрения и попадали в сферу интересов севернорусских князей, прежде всего Всеволода Большое Гнездо). Наиболее подробные сведения о разорении монголами Москвы сохранились в Лаврентьевской летописи.
Той же зимой взяли Москву татарове, и воеводу убили Филипа Нянка за правоверную христианскую веру, а князя Володимера удавили руками, сына Юрьева, а людей избили от старца и до сущего младенца; а град, и церкви святые огню предали, и монастыри все и села пожгли, и, много добра награбив, ушли далее.
Из этого краткого отрывка можно сделать важный вывод: Москва ко времени татаро-монгольского нашествия уже превратилась в достаточно крупный город – с церквями и монастырями. Раскопки, проводившиеся в Москве в конце XX столетия, позволили обнаружить домонгольский культурный слой – в частности, на Манежной площади, на улице Ильинка, на Гостином дворе; эти находки подтвердили сообщения летописей о наличии в древней Москве немалого числа посадов. При этом Москва все же оставалась пограничным, «окраинным» городом, сторожевой крепостью Владимиро-Суздальского княжества. Во всяком случае, сведений о каких-либо архитектурных памятниках владимиро-суздальской школы зодчества в Москве не сохранилось.
Некоторые подробности разорения Москвы Батыем приводятся в выписках на листах Никаноровской летописи; эти выписки обнаружил видный отечественный филолог А. А. Шахматов. Позднее было установлено, что выписки сделаны немецким ученым И.-В. Паузе (1670–1735), стихотворцем, переводчиком Российской Академии наук, из некоей летописи, которая до наших дней, увы, не дошла даже в отрывках.
Татарове пришли оттуда (из-под Коломны. – Ред.) под град Москву и начали в него бить непрестанно. Воевода же Филип Нянскин воссел на коня своего, и все воинство его с ним, и так, прекрепив лице свое знамением крестным, отворили у града Москвы врата и воскричали вси единогласно на татар. Татарове же, мня великую силу, убоялись, начали бежать, и много у них побито было. Царь же Батый паче того с великой силою наступил на воеводу и живым его взял, рассек его по частям и разбросал по полю, град же Москву сожег и весь до конца разорил, людей же всех и до младенцев посек.
Восстанавливал город князь Михаил Хоробрит, сын владимирского князя Ярослава Всеволодовича. Возможно, этот князь заложил деревянную церковь Михаила Архангела на склоне Боровицкого холма, на месте ныне существующего Архангельского собора. Исследования, проведенные в XVIII веке школой архитектора Д. В. Ухтомского, показали, что западнее этой церкви находились городские ворота, через которые шла дорога в северном направлении, а выше храма Архангела Михаила, на вершине холма, стояла еще одна церковь (будущий Успенский собор).
Позднее Москва вошла в состав владений Александра Невского, старшего сына Ярослава Всеволодовича Второго, а после смерти победителя при Чудском озере перешла по наследству к его младшему сыну Даниилу (1261–1303), правившему Москвой с 1276 года. При Данииле княжество Московское несколько расширило свои границы – за счет захваченной в разгар междоусобиц Коломны и полученного в дар Переяславля-Залесского. А самого Даниила в документах тех лет уже начали именовать «великим князем Московским», и его по праву считают основателем московской княжеской династии.
Великое княжество Московское: князь Даниил и его наследники, 1300–1328 годы
Степенная книга
В княжение Даниила были основаны Богоявленский монастырь (в Китай-городе) и Свято-Данилов монастырь (перенесенный в городскую черту при Иване Калите), где была основана первая в Московском княжестве архимандрия (здесь и сейчас размещается Синодальная резиденция Святейшего патриарха) и где был похоронен московский князь Даниил Александрович (святой Даниил Московский).
Степенная книга гласит:
Сам же великий князь Даниил, на Москве богоугодно господствуя, пошел и монастырь честной возгородил, что зовется Даниловский, тогда же в нем и церковь поставил, во имя преподобного Даниила Столпника. В том монастыре и архимандрита первого устроил, и тако теплейшим к Богу желанием в той честной обители и сам сподобился пострижен быть во святый ангельский образ богоподражательного иноческого жития. И тако в последнем смиренномудрии он к желаемому Христу отошел в лето 6811 (1303) месяца марта. <...> Великий князь Иван, зовомый Калита, сын сего блаженного великого князя Даниила Александровича, тот же монастырь Даниловский и с архимандритией привел внутрь града Москвы, на свой царский двор, где и церковь поставил во имя боголепного преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и монастырь честен устроил, древний же монастырь Даниловский и все наследие Даниловского монастыря, и самый погост Даниловский, и иные села Даниловские вручил архимандриту Святого Спаса, дабы вкупе оба монастыря под единым началом паствы неоскудно устрояются. Многие лета минули, и монастырь Даниловский оскудел, нерадением древних архимандритов Спасских <...> только единая церковь осталась, во имя святого Даниила Столпника, и прозвали место оно сельцо Даниловское, монастыря же на слуху не упоминалось, будто и не было никогда.
Даниилу наследовал его старший сын Юрий. Между тем Русь, за исключением северных – новгородских – земель, находилась под властью татаро-монголов, и князья получали ярлыки на княжение в Золотой Орде. За ярлык на великое княжение – в эту пору номинальным главой уже мог стать любой князь, не только Киевский или Владимирский – Юрий соперничал с тверским князем Михаилом, племянником Александра Невского. Как писал И. Е. Забелин, «по смерти Даниила тотчас же начались усобицы с Тверью из-за Переяславской вотчины, отказанной любимому дяде Даниилу его племянником, Переяславским князем Иваном Дмитриевичем. А вслед за тем поднялся спор из-за Новгорода и о великом княжении между Тверским князем Михаилом и Московским: старшим сыном Даниила Юрьем. В этом споре Тверской князь два раза приходил к Москве. В первый раз в 1305 г. он отступил, помирившись с Данииловичами, а во второй, в 1307 г., после упорного боя под стенами города он также ушел без всякого успеха для своих целей и города взять не мог. Город, стало быть, и в то время был укреплен, как подобало хорошему городу».
Князь Юрий расширил свои владения, присоединив Можайск, безуспешно ходил на Рязань и Тверь, а после убийства Михаила в Орде наконец-то получил заветный ярлык на великое княжение (1319). Впрочем, три года спустя этот ярлык достался сыну Михаила, Дмитрию Грозные Очи, а еще через шесть лет Дмитрий убил Юрия в ханской ставке; за что был казнен, а за ярлык на великое княжение повели спор московский князь Иван Даниилович, брат Юрия, и тверской князь, младший сын Михаила – Александр. Победа осталась за Тверью, а Москва фактически сделалась резиденцией митрополита – «цареградский чудотворец» митрополит Петр часто бывал в Москве, и его стараниямив городе был построен первый каменный храм – церковь Успения Божией Матери (в этом же храме Петра похоронили в 1327 году, спустя год после закладки церкви).
В Степенной книге говорится:
Божий же человек преосвященный митрополит великий чудотворец Петр, пройдя многие грады и веси, ибо обычай имел поучать Богом порученное ему стадо, в преславном же граде Москве начал пребывать более иных градов... (Узнав о смерти митрополита, великий князь) с вельможами своими святого тело на одре к церкви Пречистой Богородицы принес, и положено оно было во гроб, его же сам себе уготовил... и доныне там чудеса различные источаются приходящим с верою... Преосвященный митрополит чудотворивый Петр первый положен во граде Москве святитель, в основанной от него церкви соборной Пречистой Богородицы. Двумя же летами минувшими по честном его преставлении совершена была та соборная церковь и освящена Прохором, епископом Ростовским. <...>
Новый митрополит Феогност, грек по происхождению, при котором митрополит Петр был причислен к лику святых, в 1328 году официально перенес в Москву свою резиденцию, вследствие чего город сделался духовным центром Руси.
Что касается соперничества с Тверью, то после подавления тверского восстания 1327 года против наместника Чол-хана (Щелкана русских былин) князь Иван, помогавший татарам справиться с бунтом, получил в Орде ярлык на княжение в Москве, Новгороде и Костроме, а когда скончался князь Суздальский, также участвовавший в расправе над восставшими, – и ярлык на Владимир и Нижний Новгород. Князь тверской Александр намеревался отомстить Ивану за разграбление Твери, однако Иван подкупил многих в ханской ставке и очернил князя Тверского перед ханом. Александра казнили, а Ивану поручили собирать дань с прочих князей и доставлять ее в Орду. Иными словами, Москва сделалась не только духовным, но и «финансовым» центром Руси.
Москва при Иване Калите, 1328–1340 годы
Новгородская летопись
Правление великого князя Ивана Данииловича, получившего прозвище Калита, то есть «кошелек», ознаменовалось для Москвы началом каменного строительства. После успешного похода на Псков, где укрывался тверской князь Александр, в городе возвели храм в честь святого Иоанна Лествичника (1329), а также малую обетную церковь при Успенском соборе. Как сообщалось в «Путеводителе к древностям и достопамятностям московским» (1792), «постройка совершилась в засвидетельствование Всевышнему благодарения за усмирение города Пскова». Эти храмы были невелики размерами, на что указывает стремительность их постройки (чуть более двух месяцев); на месте церкви Иоанна Лествичника позднее установили колокольню для всех соборов – отсюда выражение «под колокола», – а при Борисе Годунове над церковью выстроили знаменитую колокольню Ивана Великого. Обетная же церковь сделалась приделом нового Успенского собора (1479).
В городе также возвели каменные церкви Спаса Преображения, или Спаса на Бору, и Благовещенский храм. Как писал И. Е. Забелин, «в течение четырех лет (1329–1333) в великокняжеской Москве было построено четыре каменных храма, и каждый из них строился в одно лето не более четырех месяцев».
Впрочем, каменными пока были только церкви, все остальные постройки возводились из дерева, что, разумеется, было чревато пожарами. При Калите город горел трижды – в 1331, 1335 и 1337 годах. О последних двух пожарах в Новгородской летописи говорится:
В лето 6843 [1335]. Того же лета заложил владыка Василии со своими детьми... и со всем Новгородом острог каменный по оной стороне, от Ильи святого к Павлу святому... Того же лета, по грехам нашим, были пожары на Руси: погорели город Москва, Вологда, Витебск и Юрьев-Немецкий. <...>
В лето 6845 [1337]. Наваждением диавольским встал простой люд на архимандрита Есифа и сотворил вече... Тою же зимой воевал князь великий Иван с новгородцами и послал рать на Двину за Волок... Того же лета Москва вся погорела; и тогда же пошел дождь силен и потопил все, иное в погребах, иное на площадях, что где выношено от пожара было. Того же лета и Торопец погорел и потоп.
Иван Калита также возвел в Москве «град дубовый» – как отмечал летописец, в 1339 году «заложена была Москва да и срублена», – а еще «посады в ней украсил и слободы, и всем утвердил». Дубовый Кремль, или Кремник, занимал территорию с севера на юг, от Никитской дороги (ныне одноименная улица) до Ордынской (ныне улица Большая Ордынка). Современные исследования позволили установить, что границы крепости, построенной при Калите, простирались почти до будущих каменных стен; дубовые постройки были уничтожены при князе Дмитрии Донском.
Основание Троице-Сергиевой лавры, 1337 год
Житие Сергия Радонежского
Один из наиболее почитаемых русских святых, преподобный Сергий (в миру Варфоломей) родился под Москвой, в местечке Радонеж, по Ярославскому направлению. После смерти родителей он уступил свою долю наследства брату Петру, а сам ушел в лес и предался пустынничеству вместе с другим братом, Стефаном. В Житии Сергия говорится:
Обошли они по лесам многие места и наконец пришли в одно место пустынное, в чаще леса, где была и вода. Братья осмотрели место это и полюбили его, а главное – это Бог наставлял их. И, помолившись, начали они своими руками лес рубить, и на плечах своих они бревна принесли на выбранное место. Сначала они себе сделали постель и хижину и устроили над ней крышу, а потом келью одну соорудили, и отвели место для церковки небольшой, и срубили ее. И когда была окончательно завершена постройка церкви и пришло время освящать ее, тогда блаженный юноша сказал Стефану: «Поскольку ты брат мой старший в нашем роде, не только телом старше меня, но и духом, следует мне слушаться тебя как отца. Сейчас не с кем мне советоваться обо всем, кроме тебя. В особенности я умоляю тебя ответить и спрашиваю тебя: вот уже церковь поставлена и окончательно отделана, и время пришло освящать ее; скажи мне, во имя какого праздника будет названа церковь эта и во имя какого святого освящать ее?»
В ответ Стефан сказал ему: «Зачем ты спрашиваешь и для чего ты меня испытываешь и терзаешь? Ты сам знаешь не хуже меня, что нужно делать, потому что отец и мать, родители наши, много раз говорили тебе при нас: “Будь осторожен, чадо! Не наш ты сын, но Божий дар, потому что Бог избрал тебя, когда еще в утробе мать носила тебя, и было знамение о тебе до рождения твоего, когда ты трижды прокричал на всю церковь в то время, когда пели святую литургию. Так что все люди, стоявшие там и слышавшие это, были удивлены и изумлялись, в ужасе говоря: “Кем будет младенец этот?” Но священники и старцы, святые мужи, ясно поняли и истолковали это знамение, говоря: “Поскольку в чуде с младенцем число три проявилось, это означает, что будет ребенок учеником Святой Троицы. И не только сам веровать будет благочестиво, но и других многих соберет и научит веровать в Святую Троицу”. Поэтому следует тебе освящать церковь эту лучше всего во имя Святой Троицы. Не наше это измышление, но Божья воля, и предначертание, и выбор, Бог так пожелал. Да будет имя Господа благословенно навеки!» Когда это сказал Стефан, блаженный юноша вздохнул из глубины сердца и ответил: «Правильно ты сказал, господин мой. Это и мне нравится, и я того же хотел и думал об этом. И желает душа моя создать и освятить церковь во имя Святой Троицы. Из-за смирения я спрашивал тебя; и вот Господь Бог не оставил меня, и желание сердца моего исполнил, и замысла моего не лишил меня».
Решив так, взяли они благословение и освящение у епископа. И приехали из города от митрополита Феогноста священники, и привезли с собой освящение, и антиминс, и мощи святых мучеников, и все, что нужно для освящения церкви. И тогда освящена была церковь во имя Святой Троицы преосвященным архиепископом Феогностом, митрополитом киевским и всея Руси, при великом князе Семене Ивановиче; думаю, что это произошло в начале княжения его. Правильно церковь эта названа была именем Святой Троицы: ведь поставлена она была благодатью Бога Отца, и милостью Сына Божьего, и с помощью Святого Духа. <...>
О проекте
О подписке