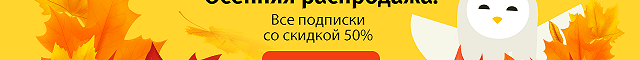
– Верю-верю! Последний вопрос: где ты его нашла?
– Так, в парке! Алла, ты чему удивляешься?! Петербург – огромный город. У вас тут выбор – не то, что у нас, на Южном Урале! И приличных мужчин – море! – Татьяна Георгиевна вполне серьезно говорила это. – Я же не просто так удивляюсь, что ты такая молодая и красивая, и одна!
– Ну, вот так получается. С любовью мне не везет. А просто так – не хочу.
– Алусь, а у нас не просто так, – Татьяна Георгиевна просветлела лицом. – У нас – любовь. Я и не думала, что такое может быть…
– Ну, остается порадоваться за вас. Но, извини, без смотрин никуда тебя не отпущу! – Алла погрозила пальцем. – Не дай бог, если мне твоей военврач не понравится!
Военврач Алле понравился. Валерий Иванович Климов был приветливым и разговорчивым, умел слушать и интересно рассказывать. «Маменьке повезло! И я рада за нее! Правда, я опять останусь одна…», – подумала Алла. А вслух сказала:
– Зато у меня теперь будет моя семья, и мне будет к кому ездить в гости! Где вы жить собираетесь?
– У Валерия Ивановича дом за городом, в Репино. Там и будем жить.
– Дом – это солидно. Утюжок заберешь?! – Алла хитро улыбнулась. – Думаю, что у тебя наступает время продуманных кружавчиков на каждой тряпочке, а их, как известно, иначе, чем этим утюжком и не прогладить!
– Издеваешься? – спросила мать.
– Шучу! Причем, очень по-доброму!
– Тогда возьму утюжок! На память. О родительском доме. И Васю. У Валерия Ивановича есть кошка Маруся. Им будет хорошо!
– Мамуль! Ты молодец: не только себе жениха нашла, но и Васе – невесту!
– Осталось тебе найти кавалера, и можно мне помирать, – Татьяна Георгиевна улыбнулась.
– Ну, мам, тогда жить тебе лет до ста!
Оставшись одна, Алла перестала завтракать дома. И быстро привыкла к иному ритму. Какое бы ни было время года, ей нравилось сидеть в кафе у окна и смотреть на улицу. В солнечный день – на обнаженные плечи и легкие сарафаны, на легкомысленные соломенные шляпы и шлепанцы на босу ногу. В снег – на шубы и меховые шапки, что топорщились от влажности слипшимися шерстинками, и были похожи на больших неуклюжих ежей. В дождь – на зонты, зонтята и зонтищи всех цветов и фасонов, от которых отскакивали дождинки.
Иногда за окном шмыгали осторожные кошки. Иногда пробегали собаки – самостоятельные, без поводков и ошейников, и не очень самостоятельные, связанные с хозяином кожаной уздечкой.
Как-то раз Алла увидела за окном собаку, которая привлекла ее внимание. Овчарка, крупная и красивая, не очень молодая. Она слегка прихрамывала, шла медленно, но по ней было видно, что она знает, куда идет. На собаке был хороший кожаный ошейник, а на ошейнике – сумочка, вроде той, что цепляют на брючный ремень для мобильного телефона. В зубах у собаки был старый рюкзачок из джинсовки с карманами из серого кожзаменителя. Похоже, пустой. Собака остановилась у окна, за которым сидела со своим чаем Алла. В этот день она радовала себя пирожками с капустой особой выпечки – из легкого творожного теста.
Собака внимательно посмотрела на Аллу. Присела за окном на задние лапы. Они при этом растопырились смешно. Видимо, из-за этого собака прихрамывала. Что-то не то у нее было с задними лапами.
У собаки была седая усатая морда.
Давным-давно у Аллы в доме тоже жила овчарка. Когда она состарилась, у нее тоже поседела морда. Нигде на шубе не было седины. Чепрачная спина до глубокой старости оставалась черной, подпалины – огненно рыжими, а морда – седая.
Собака смотрела на Аллу, будто хотела ей что-то сказать.
– Что тебе? – тихо спросила Алла.
Собака тихонько гавкнула, не выпуская из пасти лямок рюкзачка.
Алла взяла с тарелки последний крошечный пирожок с капустой и завернула его в салфетку. На выходе привычно кивнула юному официанту:
– Спасибо! Как всегда – все было вкусно!
– Приходите еще! – улыбнулся он в ответ.
– Непременно!
Алла вынырнула из прохлады кафе в душное марево питерского лета. Раскаленный воздух дрожал над мягким асфальтом, в который проваливались тоненькие каблучки и шпильки, солнце, словно шар из раскаленного металла, зависло над городом. И это в девять часов утра! Такого жаркого лета не было в Питере сто лет! Так говорят синоптики. Сто – не сто, но в последнее десятилетие температура воздуха до сорока градусов точно не поднималась.
Алла поискала глазами собаку. Ее не было нигде. Ушла?! Увели?!
«Жаль! – подумала Алла. – Собака симпатичная. И явно что-то хотела мне сказать…»
Она еще немного постояла у входа в кафе, повертела головой то в одну, то в другую сторону, но собаку так и не увидела. Она даже подумала: «А не привиделось ли?!…»
В последующие дни она приезжала чуть раньше, и задерживалась дольше. Ждала. Но собака больше не приходила…
* * *
О своем детстве Стас Горенко знал и помнил не так много. Карельская деревня в три дома. Не деревня, а хутор. В двух домах – старые бабки, в третьем – его семья: он, сестренка и мамка. У крыльца в будке – пес Верный. Если бы не он, вряд ли бы сейчас валялся Стас на своем продавленном диване и смотрел по ящику футбол.
Проснулся он тем февральским утром, а дома – ни души. Печь – чуть теплая. В чугунке на печи – пять картофелин, на столе – бутылка с остатками постного масла, огурцы соленые в банке, с паутинкой белой плесени, грибы тоже соленые, черный хлеб под полотенцем.
До обеда он ждал, что появятся мамка и сестренка Валька, которые с раннего утра отправились в район, в поликлинику. До района – семьдесят километров, да до шоссе полтора по бездорожью. Даль несусветная!
Мамка с вечера ему сказала:
– Стаська! Как проснешься – не пугайся. Пообедай и поужинай, а там, как стемнеет, и мы с Варькой, может, возвернемся. Дай бог на автобус успеть!
Стас ждал их, сидя у замерзшего окна, за которым белый сугроб крышу подпирал, и из-за него ничего не видно было. Да и что видеть? Забор. А за ним – две сосны, и снова снег.
Когда стемнело, пообедал без удовольствия. Потом уснул.
Пробудился от холода. Зуб на зуб не попадал, в животе оркестр марши военные наяривал, в избе – темно и холодно. И ни мамки, и ни Вальки.
Стасик заплакал. Сначала тихонько, потом в голос, от страха и холода. Да так, что пес Верный стал скрести дверь с улицы и подвывать.
Стасик дверь толкнул и Верный боязливо вошел в дом. Его никогда не пускали на порог, его дом – будка у крыльца, и Верный хорошо это знал, и никогда не просился в тепло. В самые суровые карельские холода он сворачивался калачиком, засовывал нос под хвост и спал на снегу. Специально! Чтоб запорошило его снежком. Под снежным одеялом ему было теплее, чем в будке. Будка хороша была в другое время года, а зимой лучше, чем в снегу, было только у горячей печки. Но к ней Верного никто не пускал. Пес был рожден на улице, и жить ему положено было на улице.
Кабы, не Верный, не было бы Стасика в живых. Изба выстудилась, и продрогший голодный Стаська согревался под старой маманиной пальтухой, обнимая пса. На исходе вторых суток их нашли деревенские бабки. Обеспокоились старухи, не увидев над крышей дома Горенко дымка из трубы. Бабка Марфа влезла в растоптанные валенки, завязала на голове платок, бывший когда-то пуховым, завернулась в тулупчик сношенный и пошаркала к соседке – бабке Соловьихе.
Та глуха, как тетерев была, ладонь ковшиком к уху, и на каждое слово вопрос:
– Ась?!
– Хренась! – бабка Марфа и понятней в рифму могла ответить. – Горенки, говорю, не померли ли! Собирайся, пойдем проведывать!
Соловьиха опять переспросила:
– Ась?!
Бабка Марфа выругалась вполголоса, сдернула с крючка у двери телогрейку, проорала Соловьихе прямо в ухо:
– Одевайся, глухня! Горенки без свету второй день!
– Ты что орешь-то?! – напирая на «о» прошамкала Соловьиха. – Я и сама вижу, чего-то у них тёмно! А чего бы без свету-то, думаю…
– Думает она! Чем ты там думаешь-то?! – бабка Марфа нашла на вешалке драный платок Соловьихи. – Ты шевелись, давай!
– Дак, я чего и делаю-то? Шевелюсь! – Соловьиха с трудом застегивала фуфайку – пальцы не слушались. – Шевелиться-то уж не могу! Помереть бы, так только б не зимой!
Соловьиха пустилась в пространные рассуждения о бренности бытия, об одиночестве и о том, что вся эта «окаянная жисть» бабке надоела до чертиков, а тут еще зима, а в зиму помирать – самой даже «неудобно перед людями». Это ж сколько хлопот-то, если зимой! Это и могилу рыть – беда, и домовину привезти из соседней деревни – тоже не так-то просто!
Она рассуждала вслух, а бабка Марфа костерила ее почем зря:
– Я ей про дело, а она опять про свое умирание! – и проорала ей громко в самое ухо. – Надоели мне твои разговоры про смерть! Ты ее дождись сначала! Уж сколько годов ждешь, а она заблудшая где-то!
– Дак, я што, виновная что ль в этом? – всхлипнула Соловьиха, вываливаясь в холодные сени. – О чем мне другом-то говорить, если жду-не дождуся старую с косой…
Потом они с трудом продирались через снежный занос, которым перемело дорогу: трактор по деревне проезжал в лучшем случае раз в неделю, а если Федька-тракторист ударялся в пьянку, то и реже. Вот тут как раз был тот самый случай.
– Федька – обормот, опять водку пьянствует, сволочуга пьяновая! – ругалась бабка Марфа.
– Ась?! – переспрашивала Соловьиха.
– Хренась! – снова огрызнулась бабка Марфа. – Глухариха! Говорить с тобой, так только нервы трепать.
Помолчала, и громко, против ветра крикнула:
– Уши давно мыла?!
– Давно! Мы с тобой как на Новый год истопили баню, с тех пор и не мылась, – обстоятельно ответила Соловьиха. И тут они пришли.
Калитка у соседей Горенок не открывалась, замело ее. Пока бабки тянули ее со всех сил, пытаясь продрать штакетины через свежий снег, промокли, как две мыши. Бабка Марфа материлась в голос, а Соловьиха поминутно задавала свой любимый вопрос:
– Ась?!
Наконец, калитка поддалась, прочертила по снегу полосы, как большая гребенка, и бабки протиснулись в образовавшуюся щель.
Стаську и Верного забрала к себе бабка Марфа. Мальчика одели в то, что удалось найти. Входную дверь подперли метлой – голиком на палке, и отправились в обратный путь.
– И что, обещались вечером приехать и не приехали? А, может, в больницу их определили? Не? Не знаешь? Экой ты, Стасюшко, немко! Слова не вытянешь!
В дом к бабке Марфе пса не пустили. Хозяйка определила его в сени, где в углу лежала копешка сена.
– Этого-то кобеля тепереча как кормить?! – сетовала Марфа. – У меня ж мяса для него нету!
Пес мяса не требовал. Он рад был хлебу и горячей перловой похлебке, в которую бабка капала немного постного масла. Пес сам открывал дверь на волю, уходил со двора, быстро бежал к своему дому, жадно обнюхивал калитку, пробирался к крыльцу, проваливаясь по самое брюхо в снег, заранее зная, что в доме никого нет. Ни одного следочка от дороги к дому, и сугробы у крыльца выше и выше день ото дня. Выше и выше. Выше его будки, которую когда-то, когда он был еще глупым щеном, любовно сколотил ему хозяин. Потом хозяин ушел. Постоял недолго на пороге, огладил Верного, и ушел. И больше никогда не появлялся.
А вот и другие члены семьи Горенко – мать и сестренка Стаса – исчезли без следа, будто корова языком слизала. Как стало позже известно, в поликлинике они не появились. Ни живыми, ни мертвыми не отыскались. Их исчезновение так и осталось тайной, за разгадку которой Стас отдал бы все, что у него было.
Осенью в лесу грибники нашли останки двух человек. Опознавать было нечего и некому. В местной милиции пришли к выводу, что это пропавшие родственники Стаса Горенко. Скорее всего, в пургу его мать и сестра были сбиты на дороге машиной и спрятаны в лесу. Стас узнал об этом через много лет – его познакомили с документами личного дела, в котором была справка из милиции. Впрочем, все это были лишь предположения.
А тогда три недели он прожил в избе у бабки Марфы, и все ждал и ждал мать, глядя с утра до вечера в продутый горячим дыханием «глазок» в замерзшем окне. Потом за ним приехали из районного центра, и увезли в приемник-распределитель. Там Стасу впервые в жизни начистили рыло. Он бы сказал, «побили», но взрослый Колька-кореец, который верховодил в приемнике-распределителе, сказал, что будет «чистить рыло», и чистил! А потом нашел его, зареванного, с кровавой юшкой под носом, в туалете за шкафом, крепко прижал к себе, и повторял:
– Мужиком будь, слышишь, ты?! Слышь, я кому говорю-то?! Мужиком будь! Это тебе учеба была. Будешь мужиком, я тебя уважать буду, понял – нет?!
– Понял, – шмыгнул носом Стася, сплюнул кровью, и боднул упрямо в лоб Кольку-корейца, который сильно нарушил его личное пространство.
Как и следовало ожидать, спустя какое-то время, Стас Горенко попал в детский дом, где прожил до шестнадцати лет, закончил девять классов, и подал документы в училище, на шоферское. Мог бы что и поинтереснее выбрать, так как учился хорошо. Но ни к чему ему было, потому что мечтал о службе в милиции. Хотел стать следователем. А для этого ему надо было отслужить в армии.
Физические данные были – дай бог каждому! Детский дом свое дело сделал: Стаська научился драться, как тигр! Бицепсы и трицепсы росли год от года. Он давал их потрогать девочкам, и они делали это с удовольствием и уважением.
Потом была учеба в училище, где было ему скучно, так как науку шоферскую он в совершенстве освоил еще в детском доме, пропадая с утра до вечера в гараже с детдомовским водителем дядей Семеном. В конце своей учебы у него Стас мог запросто двигатель перебрать. И старенькие «Жигули» водил классно. И даже грузовик. Только прав не было. А их Стасу можно было выдать с чистой совестью без всякого училища, но … «не положено!» И потому отсиживал он на скучных уроках совсем без пользы, и мечтал о практике. По улицам районного центра ему поездить пока не довелось. А когда это, наконец, произошло, инструктор по вождению посмотрел на него с уважением, и принял экзамен без придирок.
Через год учебы Стас получил досрочно водительское удостоверение и «университеты» его на этом закончились. Он прикидывал, как построить дальнейшую жизнь, и тут вдруг получил письмо от Кольки-корейца. Их пути после приемника-распределителя разошлись: Колька сбежал оттуда, подался в Питер к дальней родственнице, которую он для простоты называл «теткой». Дальняя родственница оказалась сердобольной, сироту приютила. А теткин муж – Иннокентий Семенович, – определил его сначала в школу-восьмилетку, а потом в училище при судостроительном заводе. Так у Кольки-корейца началась рабочая биография.
Спустя некоторое время после того, как судьба раскидала их, Колька-кореец нашел Стаса в детском доме. Написал письмо. Стас обрадовался, так как на всем белом свете у него было только два близких человека – бабки с родного хутора, Марфа и Соловьиха. Писем им он не писал. Боялся, что напишут они ему, что пес его Верный пропал, или умер от тоски. Как тогда жить с такими вестями?! Нет уж, лучше не знать, и думать, что живется Верному сладко и вольготно с бабкой Марфой.
И вот еще Колька-кореец был ему не совсем посторонним. Он первым юшку кровавую пустил Стаське, и сам же пожалел, рассказал, что есть мужиком настоящим быть. Правда, толком побрататься они не успели – Колька сбежал из приемника-распределителя. И вот – нашелся!
Писал он Стасу про жизнь свою ленинградскую. Рассказал, что был в зоопарке и цирке, катался на метро и ходил с дядькой на демонстрацию.
Переписка у них не была регулярной: то один, то другой иногда подолгу не отвечали на письма, то конверты терялись где-то в почтовых пересылках. Но Стас знал, что у него в городе Ленинграде живет друг Колька. И когда он написал ему, что у них на заводе есть общежитие, и если Стас хочет, то…
Стас хотел! Профессия в руках. И к черту завод! Стас слышал, что в Ленинграде в милицию можно устроиться на работу, если биография подходящая, и общежитие там дают тоже.
«… Я живу в комнате теткиной покойной сестры, и ты, пока не устроишься с работой и жильем, можешь жить у меня. Места хватит!»
Никто и никогда не приглашал вот так Стаса в большой город пожить, сколько надо. Он собрался быстро. Что его сборы? Две рубашки в хозяйстве, ботинки, смена белья, осенняя куртка. Из зимней вырос – рукава по локоть. Даже брать ее не стал.
В Ленинграде на вокзале встретил его Колька-кореец. И почему «кореец»? Внешне не похож на корейца. Совсем.
– Колька, все спросить хотел: ты почему «кореец»? Не похож ты на них ни фига!
– Точно! Не похож! – хохотнул весело Колька. – А я и не потому «кореец»! Я у торгаша одного из подсобки на рынке спер корейку – шмат постного мяса на ребрышках, килограммчиков так на пять. И сожрал! Когда меня прихватили, мяса уже не было, только косточки остались! За это менты меня «корейцем» назвали. И все ржали, глядя, как я каждые пять минут носился в туалет. Сказали, бог шельму метит!
Колька помолчал.
– А кореечка просто знатная была! Хозяин ее рвал и метал, требовал вернуть. А как там вернешь?! Да и я малолеткой был – что мне предъявишь?!
– Колька, а знаешь, какая у меня мечта? – вдруг спросил Стас.
– Откуда ж мне знать?! Ты мне не рассказывал!
– Я в милиции работать хочу! – выпалил Горенко.
Бесплатно
Читать книгу: «Нежная мелодия для Контрабаса»
Установите приложение, чтобы читать эту книгу бесплатно
О проекте
О подписке
