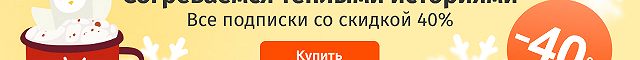
– Ну и чего с ней делать? Ну чего встал? Давай хоть отмоем для начала. Держишь «подарочек» наотлёт. Накормить ее чем-нибудь надо, а сперва напоить, и как еще жива дитинка – чудо, как есть чудо…
Прохор переложил малышку на левую ладонь животиком. Тоненькие ручки и ножки судорожно обхватили его руку. Девочка чуть дышала, тихонько постанывая.
– Пошли уже, чего уж тут теперь… потом думать будем, а счас делать надо, – проговорил старший брат.
При приближении к берегу, еще издали они услышали громкий Васяткин рёв, мальчишка голосил, причитая, звал их…
Прохор испуганно смотрел на противоположную сторону Ахтубы, волнуясь за сына.
– Гриня, мы с этим происшествием про своего дитя забыли, дурни, выпугался пацан…
А Григорий уже бежал со всех ног успокаивать своего любимчика и махал ему руками.
– Васята, дитёнок, мы тут! Не бойся, мой золотой!!
Васёк кинулся плыть навстречу, потом вернулся, всхлипывая, стоял по шейку в воде, дожидался, потом обхватил подплывшего паренька руками и ногами и заплакал уже от обиды, уткнувшись носом в шею дяди Грини.
– Вы что так долго? Что за дым там такой страшный? Я было хотел к вам плыть, но так забоялся… вас всё нету и нету… думал, что уже поубивали вас тама… думал, что тикать пора…
Гриня, гладил пацаненка по спине, нес в тенек, успокаивал.
– Ой, Васяня, хорошо, что тебя с нами не было… Ты, милок, прав оказался. Там, на той стороне мы с твоим батькой сейчас семью калмыцкую хоронили, убиенную зверски, а потом ещё и убийцу нашли, он, убегая весь пораненный, подох от потери крови. Мы его, поганца, бросили на растерзание диким зверям, туда ему и дорога…
Мальчишка расширенными от ужаса глазами глядел на дядёчка, озираясь на отца, который по пояс вошел в воду и с чем-то там возился.
– Ой-ма, страстей сколько… А чего там тятя делает? Чой-то моет, кажется…
Гриня усадил мальчишку на попону,сам примостился рядышком.
– Ба-аа, я не успел рассказать. Мы с ним девчонку крохотную, живую нашли. Только боюсь, помрет она, такая худющая, страшная, вся в коросте болячечной…
– Фу-уу… А глянуть можно?
– Ой, милок, чует моё сердце, ежели отживеет, ещё наглядишься досыта… Давай лучше сетку помоги мне вытащить, опростать*, да с рыбой управиться. Как бы там ни было, а жрать охота…
Глава 3
А на другом берегу, Прокофий притащил девчонку к реке, и, зайдя по пояс, опустил ее в воду, удерживая головёнку и плечики на поверхности.
– Ну, вот отмокай пока, – приговаривал он, бережно отмывая измученное тельце.
Когда вода попала ей на личико, на сухой, потрескавшийся от обезвоживания ротик, девчонка стала делать глотательные движения, затрепетала, поперхнулась, тоненькие ручки и ножки задергались.
Проша ее чуть не выронил. Потом наловчился, обхватил большим пальцем ее подмышку, а остальными четырьмя – голову. Через несколько минут она была отмыта от грязи, даже некоторые сухие болячки поотставали.
Боясь переохладить малышку, он заторопился на свой стан, переплыл, держа ее как кошенёнка в вытянутой над головой руке.
– Васятка, сынок, достань-ка из узла мою рубашку исподнюю и безрукавку стеганую, тащи сюда.
Когда изнывающий от любопытства Васёк притащил одёжу, загомонил рядом.
– Тять, ну дайте глянуть, а? Ну пока она ещё живая…
Но Проша, осторожно повёртывая ребёнка, задал еще одно задание.
– Притащи сюда плошку глиняную, а теперя, ну-ка, напруди в нее. Давай, давай, чего вытаращился. Говорят детская моча лечебная, я слыхал, даже пьют её от нутряных хворей…
Обмакивая край рукава в плошку, Прокофий тщательно промыл мочой все болячки. Потом завернул девочку в рубашку и уложил на сложенную вчетверо безрукавку. Найдёнка не плакала, а только стонала и цеплялась ручонками за рубашку, а в глазенятах было столько муки и страха, что слёзы наворачивались.
– Эх, кабы Дуня моя счас заместо меня, – тоскливо прошептал Прокофий, – а мои руки – крюки…
Когда поспела уха, дал ей из ложки несколько глоточков.
Намучившаяся, сытая и обихоженная девчонка уснула, и спала так долго, что Васятка весь измаялся.
– Ну, тять? Чего? Померла? Чего? Дышит? А она помрёт или проснётся? Ну когда она проснется?– ныл под ухом, назойничал, пока не получил по заднице. Надулся, как сыч, уселся в сторонке, поглядывая из-под нахмуренных бровей.
***
Провозились с маленькой Даренкой почти неделю, долго она была между жизнью и смертью. Расстроенный кишечник грудного ребенка не принимал пищу, которая была у мужиков, нужно было молоко…
Как не тяжко это далось, пришлось подавить в себе суеверный страх, переправиться на другой берег, коровы там ходили, и был шанс выходить девочку. До села, такую слабенькую, её было не довезти…
Пришлось навести на становище порядок. Засыпать пепелище небольшим курганом, завалить землей презренные останки убийцы.
Гриня хорошенько отмыл, обжег большой удобный казан, убрал, закопал весь мусор. Переместил стан поближе к воде. Соорудил из старой арбы и новых веток хороший навес от дождя и отправился на ту сторону за тальником, решив обнести его плетнем, дотошный такой, два дня провозился, не взирая на воркотню старшого.
– Ты бы лучше ягнока зарезал, мясца хоть поели бы, – ругался Проша.
Сам он, первое что сделал – оглядел коров, проверил дойных, которые подпускают к себе. До ночи промучился. Потом загнал на баз, телят отбил, закрыл в загоне.
А поутру стал пускать по очереди телят в коровий баз, сам за каждым теленком след в след с плошкой.
Коровы дико косились, перетаптывались с места на место. Только притронется к вымени – лягались, высоко задирая задние ноги. Которая не дается – долой с база.
Наконец напал на спокойную. Красная корова с прямыми, красивыми рогами спокойно сапнула ноздрями, потянулась к его руке, оглаживающей рябенького теленочка. Проша погладил ее по шее, почесал по спине, тихонько просунул ладонь рядом с телячьей мордой, ухватился за сосок, тихонько пожамкал – молоко чвиркнуло между пальцев. Счастливый до невозможности, наперегонки с телком надоил полплошки молочка, весь взмыленный, на трясущихся от напряжения ногах вышел с база.
Унес в сторонку драгоценный напиток, потом выгнал на пастбище всех коров, оставив в загоне только Рябунка – теленка.
Велел Васятке надрать ему травки и, раза три за день, притащить в ведерке воды, напоить.
Скоро приладились, и молока стало хватать на всех, не только девочке.
Еще пришлось привязать в кошаре, закрыть, любимого Черныша, не поделившего с местными псами территорию. Еле отбили его из бешеного клубка, лающего и кусающегося. Теперь он скулил от обиды и рвался на волю.
Нет-то, нет-то через недельки полторы притерпелись, перестали цепляться, но Черныш так и держался от остальных особнячком.
***
После коровьего молока Дарёнка пошла на поправку. Болячки сошли. Тельце, беленькое, с очень нежной кожей, стало понемногу наливаться. Щечки порозовели. От всеобщего внимания и теплоты испуг и затравленное состояние у нее сошли быстро. Карие глазенята поблескивали, как звездочки, а в широко улыбающемся ротике обнаружилось два зубика.
Маленькая озорница шустро, не догонишь, ползала по утрамбованному полу под навесом, гулькала, пускала пузыри, пищала, в общем, вела себя как все младенцы на свете.
Васятка, на удивление, привязался к девочке. Всюду таскал ее за собой, тетешкал, укладывал спать рядышком. Бурчал, когда среди ночи малышка устраивала «потоп», но отдельно не клал. Перемещались на сухое место, укрывались, так и спали – в обнимку. Научил её играть в «ладушки». По полчаса могли сидеть друг против дружки, стукаться лбами приговаривая: «баран-баран-тук». Или загибать пальчики: «сорока-воровка кашку варила, деток кормила, этому дала…» Малышке быстро надоедала длинная потешка, она радостно вздыхала, взмахивала ручонками и прикрывала ладошками макушечку, ждала когда мальчик произнесёт: «на головку сели». Очень любила играть в «прятушки», накрывалась какой-нибудь шмуткой, замирала и ждала, хихикая, пока Васятка «ищет»
– А где Дарёна? Нету! А-аа, вот она!! Мальчик стаскивал покрывало, хватал её, тискал, щекотал. Дашка визжала, вырывалась, пыталась удрать, ползком, как червячок.
Мужики смотрели на детей с суровой нежностью, молчали – каждый думал о своём… но общая их мысль была – хорошо, что память о боли и страхе у деток короткая…
Однажды за обедом Прокофий, нахмурившись, отодвинул от себя миску.
– Так, эт не дело… хлеба нет, муки нет, крупы… все позакончилось. Жрем чужое мясо. Не дай, Господи, родня какая объявится… Нас могут обвинить. Поеду-ка я в село, которое наиближайшее, поспрошаю.
Собрался, оседлал Воронка и поехал вдоль берега, вниз по течению, буркнув через плечо.
– Могу не появиться несколько дней, не переживайте тут.
Глава 4
Вернулся он на другой день к вечеру с гостинцами и огорошил такими новостями, что уснуть в эту ночь не смог никто, кроме маленькой Даренки, конечно. Проша все рассказывал и рассказывал, его перебивали, переспрашивали…
– Ну в общем Котлы тут недалёко оказалися, полдня ровным шагом…
– Добрался я, огляделся, давай народ пытать про урядника. Дом его мне указали… Я сургучную бутылку купил в лавке, иду, значит… а перед входом мужики гуртуются, и так эт неровно позыркивают…
Васятка, круглыми, как у мышонка глазенятами, открыв рот и затаив дыхание, глядел на батю.
Григорий, откинувшись на спину, завернув руки за голову, посмеиваясь, покашливая, слушал и ждал, когда же родненький браточек начнёт прибрёхивать.
– Ну, я их и спрашиваю… сперва, конечно, поздоровкался, табачком угостил… ну и спрашиваю – а не подскажете ли вы мне, люди добрые, чего из себе представляет ваш урядник, и есть ли в этом поселении Рябинкины?
–Есть,– говорят,– и Рябинкины, и урядник человек правильный. Токмо из Рябинкиных остался один Андрей Михалыч, старый дед. Только нелюдимый это человек, горе у него – дочка единственная, подлюка, убёгом за калмыка пошла, ну так он навроде отрёкся от нее, а сам на глазах прямо сдавать начал, навроде ищет он ее, уже с год, поди.
– Опа, новость! А ты чего ж? – вскинулся Гриша.
– А я чего, я напросился к этому деду на постой, мол, хочу с семьей тут осесть, взять хутор – скотину разводить, мол на разведку приехал, завтрева до урядника собрался…
Ну а за ужином, да за бутылочкой познакомились теснее, он мне об своей житухе всё и поведал, пожалился, про дочку рассказал…помириться он с ней хотел, дом купил в подарок и отправил на поиски племяша жены-покойницы…
– Я юлить перед ним не стал, всё как было- чего видали мы, чего сделали – всё как есть обсказал, обрисовал – и бабу с калмыком, и убийцу ихнего, и про Дарёнку… внучка она его… А убийца, по всем статьям, энтот дальний родственник и есть… во как…
Какое-то время все сидели молча, серьезные и сосредоточенные. Проша тяжело вздохнул.
– Я и деньги, и бумагу, и часы – все перед ним выложил…
– А дед?
– А дед сперва, как каменный сделался… да-а… я его одного оставил, на крылечке уселся, закурил… он потом вышел, рядышком сел и говорит,– ты вот чего, сынок, давайте ко мне перебирайтесь. Старый я совсем, не поднять мне Дарьюшку… Чего я надумал,– говорит. Новый хутор на внучку, а этот дом на тебя – дарственную… скотину пригоните, и у меня кой-чего есть. Дашу на свою фамилию в приходе оформлю, с отчеством на моё имя… а помру на себя опекунство возьмёшь… И живите, и мне в старости прислон… А с родней той я не смогу, никак не смогу… Одно прошу, пусть об энтом никто никогда не узнает…
– Обнялись мы с ним, поплакали даже. Потом помянули Алёну его…
Наутро к вам вот вернулся, так что давайте собираться, один ляд не спим…
***
Уложив, увязав в мешки всё свою поклажу, загрузив на заводных лошадей, начали седлать каждый себе, как вдруг Гриня заявил – хочу на верблюде поехать…
Прокофий сложил руки на груди, с интересом наблюдал – чем всё это закончится.
Братуха, молодой, ловкий, уверенный в себе, подошел к верблюду, мирно лежащему, и накинул ему на морду налыгач*. Скрутил валиком кожушок, пристроил в виде седелка между горбов, умастырился туда кое-как, пятками в бока верблюду…
– Но-оо! Пошел, родимай!
Верблюд издал утробный звук и остался на месте. Гриня его и хворостиной, и «цоб-цобэ» властно так прикрикивал, и Васька заставил сзади кричать, руками размахивать…
Нет, не хочет тупая скотина вставать…
Разозлился, слез со спины, наперёд забежал, и по морде верблюда кулаком, да матом…
Ну, на такое хамство Верблюд ответил. Забутел, неожиданно резво поднялся и загнал горе-наездника в воду, даже лап мочить не стал, харканул вдогонку…
Ох, как ругался парень, напуганный, весь в вонючей, липкой, зеленой жиже, проклинал несчастного верблюда до седьмого колена…
Помирающие со смеху, Проша с Васяткой еще ни разу не видали и не слыхали такого Гриню. В конце-концов он и на них осерчал, за насмешки.
– Эх, ты, молодо-зелено, не умеешь в воде ср…, не пугай сазанчиков! Хохотал Проша, понимая, что еще больше разозлит братку, все же не удержался – подошел к другому, старому верблюду. Шерсть у него была потерта между горбов и на боках, на шее от веревки. Видок был весьма плешивый, не то что у Гришиного обидчика. Зато понятно, не всем правда, скотина к упряжи привычна… Накинул на морду веревку, потянул за нее вниз, приговаривая: «Чок, чок…».
Верблюд, подогнув сперва передние, потом задние ноги, улегся. Усевшись безо всякой подстилки между горбов, Проша задирая вверх налыгач властно прикрикнул: «Хач! Хач!», и широко раскидывая в стороны ноги, ударяя босыми пятками в бока, погнал верблюда, почти вскачь…
Гриня растерянно глядя ему вслед, плюнул с досады: «Ну и куды попер? Ловкач, ети его! Ну умыл, умыл, вертайся!»
Успокоившись, сгуртовали всю скотину и погнали потихоньку по берегу.
Дашку Проша посадил перед собой, обнял, прижимая к себе, и замурлыкал какую-то песню. Вскоре, от мерного покачивания и от спокойного голоса своего новоиспеченного бати, девочка заснула и проспала до самой сармы. Даже шумная переправа через брод не разбудила малышку.
А на другом берегу Ахтубы их встречал старый дед Андрей. Он с утра топтался по берегу, с нетерпением ожидая внученьку. Перенял её трясущимися руками у Прокофия, молча оглядел полными слез глазами…
– Вылитая Алёнка, не открестишься – моя дитина…
Отогнав скот на дедов хутор, перепоручив его работающим там чабанам, новоиспеченная семья отправилась в село.
***
Большие Котлы или Княжево расположилось в стороне от полой воды, недалеко от Ахтубы на речке Ашулук. Сельчане называли её кто Шулух, кто Грязна.
На илистых берегах стояло множество ветряков*, дворы, находящиеся рядом, утопали в садах.
По улицам ходили стаи домашних гусей и уток – от речки и обратно. В каждом переулке в широченных, раскопанных лужах лежали, подрёмывали грязнющие свиньи, с мечеными ушами. В зольных кучах кувыркались через спину лошади*.
А в местах, где дно песчаное, из речки не вылезала ребятня. Днём село было в их распоряжении. Пока старшие гнулись то на покосе, то на пашне, то на посадке, прополке… Им надо было и воды натаскать, и двор подмести, базы* почистить, объедья* из яслей* на поветку* пораскидать, и яблок-падальцев собрать, нарезать, насушить, поросят да курят покормить, попоить…а ввечеру нагоняй отхватить… Потому-как в речке вода прохладненькая – так и манит, а забав за околицей и того больше…
Вечерами над селом раздавались песни. Жили в Котлах в основном переселенцы с Воронежской и Орловской губерний. Местные называли их «перевертышами». Речь кацапов* у них так тесно перемешалась с хохляцкой, что это был уже свой, понятный только им язык, всё же он по звучанию был ближе к певучей украинской мове. И песняка везде давили при любом удобном случае.
Зимний дом у деда Рябинкина стоял на центральной улице – «Красной», которая разделяла «самодуровский» край села, где жили в основном кацапы, от «сенострижковского». Это был большой – пятистенок, пластинчатый, под шатром крытой железной крышей с флюгером на коньке. Застекленные, высокие окна с резными ставнями. На улицу выходило переднее крыльцо с перилами, понизу украшенными резьбой, с козырьком, тоже отделанным кружевными деревянными планочками. Высокие, широкие ворота на больших кованых петлях, тяжелые – внизу колесико, чтоб открывать было полегче. На столбе – высокий шест со скворечником, малюсеньким повторением самого дома. Резная калитка с красивой железной щеколдой.
– Михалыч, да ты по плотницкой работе дока, вишь красота какая, – увидав дом, проговорил Гриня, оглядывая деревянные украшения.
Дед довольно крякнул:
– Не, эт не я, за две дойных коровы, хорошего заводу, еле уговорил Тихона Калистратыча Шиленко. Эт он мне такую радость спроворил. А у него доо-ом… Ды у него даже мельня в кружавах. Увидишь ишо… любят энти хохлы выкрутасы всякие, то хаты свои опосля кажного дождя белют, печки цветиками разрисовывают… а мы их всё ж на маслену били и бить будем… приговорил, как прихлопнул дед. Мужики от всей души расхохотались. Так уж залихватски это у него вышло, совсем беззлобно, но с таким задором, что все, сразу почесывая кулаки, загомонили. Каждый вспоминал своё… кто, кому и когда удачнее заехал в ухо, челюсть свернул, либо носопырку расквасил…
Глава 5
Зажили Гаршины на новом месте хорошо, дружно. Дед Андрей сдержал своё обещание, принял их всей душой, и как-то постепенно Прокофий встал во главе всех дел, относясь к старику с сыновней теплотой и заботой. Но это произошло не сразу.
Андрей Михайлович всю свою жизнь занимался скотоводством. Дело у него было хорошо отлажено, поставлено на крепкую, широкую ногу.
В степи, над ахтубинским берегом у него было несколько хуторов, где летом жили наёмные скотники, следили за его скотиной – пасли, гоняли на водопой. Во время окота и стрижки Рябинкин дополнительно нанимал людей.
Чаще всего это были казахи-степняки. Нищие, безземельные они толпами громили окраинные хутора, Одиночки искали работу. Заработав немного денег или пропитания, многие всё пропивали и снова просились в наймиты. За ними нужен был глаз да глаз… некоторые леноватые и хитрые доводили скотину до такого состояния – без слёз не взглянешь. Свяжешься с таким и ударит он тебя по карману так, что не прочихаешься. Кошары в прорехах, вонь и мухи… инвентарь попорчен…
Дед Рябинкин имел острый глаз при подборе чабанов, редко промашку давал… да и земля слухами полнится… к нему и не липли те, у которых рыльце в пушку, знали – не спустит.
В займище, на Змеином ерике тоже был Рябинковский хутор. Сюда скотину скочёвывали на зиму, когда в степи заканчивались корма, а в займище – покос.
Хутор был крепкий, с хорошим саманным домом, с тёплыми базами, просторными загонами на взгорке, куда не доставала полая вода. С речки ветряк гнал воду в небольшой сад – огород. В пересохшем ильмене росла картошка.
В своё время еще его отец застолбил там обширный покос. Сейчас там кипела работа. На хуторе жила семья наймитов-переселенцев и работники, которые занимались покосом. Муж работал в огороде и саду, а жена с дочкой-невестой ему помогали и кашеварили для покосников. Сынишка, Васяткиного возраста пас корову, которую им для молока оставил хозяин. А между делом удил рыбу. Следил за домашней птицей.
А сам хозяин жил в селе, занимался сбытом, наймом, закупом. На хуторах бывал наездом, для контроля. По старости силы и доход уменьшились, сноровка была уж не та.
В скором времени Прокофий, постепенно стал вникать в ведение поставленного хозяйства, практически не отходил от Михалыча, и выспрашивал и советовался, понимал – до Рябинкина ему, как до небушка, благо силушка-то есть. И полегоньку пристругался, дела на поправку пошли…
Дед любил рассказывать про свою жизнь, часто горился, вспоминая, что во времена его отца на хуторах заправляли родные люди, а не наймиты. Вот тогда была прибыль. А чужой и есть чужой, так и норовит кусок урвать, за хозяйством с небрежением следит, ленится.
– У родителей я был один сын, остальные дочери. Повыскакивали замуж – и нет рабочих рук. А моя Алёна – и того пуще… Вот бы дожить, глянуть каково у Дарёнки сложится… Не-е не доживу… Ты, сынок, вникай во всё, помру, в разор не пусти… А лучше ожени потом Дашку с Васькой…
О проекте
О подписке
Другие проекты
