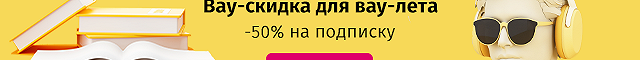
Именно в аспекте точек зрения, т. е. в плане пространственности понимается нарратив в живописи. Как уже говорилось, в зеркале как посреднике обнаруживается соответствие категории несобственно-прямого, т. е. косвенного повествования в составе авторской речи. Позиция рассказчика проявляет себя в зоне противопоставления оплотненного плана содержания (объектное высказывание) столь же оплотненному плану выражения (субъектное высказывание). Однако характер этой экспликации рассказчика в мотиве зеркала и роль зеркала как самостоятельного посредника-рассказчика, незримого свидетеля, на протяжении истории искусства менялись в соответствии с типом культуры.
Если в миметическом искусстве зеркало собирало изображение, раздвигая границы видимого, в барокко оно ставит под вопрос идентичность «Я», в символизме удваивает миры, открывая бездну демонического инобытия, т. е. реализуя миф о Нарциссе. О демоничности зеркала у первого поколения символистов и противопоставившего им значение зеркала как прозрачности у второго поколения, вместе с закрытием им дурной бесконечности отражений посредством концепта двойной бездны, подробно пишется в исследовании о символизме А. Ханзена-Лёве [Ханзен-Лёве 1999б]. В авангарде эстетика зеркала является знаком распыления реальности. Кубистическое дробление предмета, видимого с нескольких сторон одновременно, есть в известной мере результат расширения пространства за счет зеркального отражения. В поставангарде – советской живописи переломной эпохи конца 1920-х и начала 1930-х годов – вновь возникает мотив зеркала: он появляется в составе натюрмортов, использующих набор традиционного (особенно характерного для барокко) сюжета vanitas. Однако какова бы ни была роль мотива в любом из указанных значений, в контексте той или иной модели культуры проявляется третий как речь скрытого персонажа, имплицитно вводимого в рассказе автора.
Неявный рассказчик (значимый третий) в живописи мог приобретать формы обозначения, не связанные с мотивом зеркала. Так, оптический способ обозначения неясного видения дают разнообразные обманки барокко: например, анаморфизм в уже упоминавшейся в предыдущей главе картине Гольбейна Младшего «Послы» (1636), где непонятный предмет на первом плане, будучи мысленно спроецирован под другим углом, дает изображение черепа. Другой пример скрытого персонажа посредством оптического трюка – сюрреализм С. Дали: на его полотне «Невольничий рынок с явлением исчезающего бюста Вольтера» (1940) группа персонажей на заднем плане может одновременно зрительно выстраиваться в изображение бюста великого философа [илл. 11]. Помимо оптических приемов обозначения стороннего наблюдателя/повествователя в истории живописи был распространен способ игры в истинную/ложную идентификацию автора полотна. Так, облик автора в виде одного из фоновых персонажей предстает на картинах В. Пукирева («Неравный брак», 1862), А. Иванова («Явление Мессии», 1837–1957), В. Сурикова («Утро стрелецкой казни», 1881)[8].
11. С. Дали. Невольничий рынок с явлением исчезающего бюста Вольтера. 1940
Между тем, именно когда в игру вступает мотив зеркала, вводя третьих лиц, возникает решительное раздвижение семантических рамок и смысл рассказа трансформируется. В истории живописи о мотиве зеркала в этой функции особенно много писалось в связи с картинами Я. Ван Эйка «Чета Арнольфини» и Д. Веласкеса «Менины» (Фуко). Как известно, в обоих картинах отраженное в зеркале расширяет пространство картины, вводя новые точки зрения и дополнительные персонажи, а во второй – вводится и автопортрет. В связи с картиной Веласкеса Ю. М. Лотман отмечал, что «точка зрения выделяется как самостоятельный структурный элемент» [Лотман 2000б: 196].
Однако в истории живописи мотив зеркала не только расширяет пространство картины или обыгрывает автопортрет. И у Тициана, и у Веласкеса, и у Строцци, а также у многих других мастеров великой европейской традиции можно заметить третьего, кто дополняет бинарность персонажа и его отражения в зеркале: в некоторых случаях этим третьим становится мифологический или бытовой персонаж (херувим, Эрот, служанка и т. п.), держащий зеркало перед обнаженной красавицей, в других случаях наблюдатель стоит за спиной отражаемого или рядом с ним. Тем самым для визуального повествования присутствие третьего в связи с мотивом зеркала становится почти необходимостью.
В аспекте зеркала как визуализации посредника слухов, между тем, особенно интересна композиция, на которую историки искусства мало обращали внимание – это полотно русско-украинского мастера круга Венецианова Г. Сороки «Отражение в зеркале» (1840-е годы) [илл. 12]. Изображенное целиком соответствует названию и лежит в зоне отражения в зеркале, чья рама ясно обозначена, и благодаря раме выявлен метауровень повествования. Шитье на переднем плане можно воспринять как метафору сплетен-пересудов (ср. мифологическое значение шитья как плетения словес/интриги), сцена двух беседующих женщин в глубине пространства поддерживает эту риторику. Здесь зеркало функционирует в роли неявного рассказчика, скрытого наблюдателя. Последний реализует затрудненное зрение, и оно соответствует типу литературного повествования в режиме «мерцающей» мифологии, где возникает не отсылка к тому или иному целостному сюжету, а лишь заметны его улики. Уместно вспомнить в этой связи наблюдение Апостола Павла о том, что мы видим идеальное и совершенное «гадательно», будто во тьме тусклого стекла («Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» [I Кор. 13: 12]). Не случайно Г. Сороку называют одним из чистейших лириков русского искусства [Сорока]. В анекдотическом сюжете этого произведения в силу его метафорической емкости в свернутом виде выявились те потенции семантики зеркала в аспекте переносных значений и косвенной наррации, которые в полной мере получат выражение уже только в ХХ веке.
12. Г. Сорока. Отражение в зеркале. 1840-е гг.
Приведем ряд примеров функционирования зеркала как косвенного рассказчика в искусстве ХХ века:
1. Пример зеркала как трансфера-границы между мирами представлен в символизме. Мифологема водоема выступает как обозначение зеркальной границы, разъединяющей и соединяющей верхний и нижний миры, в частности, в живописи Борисова-Мусатова. Зеркало маркирует также совмещение идеального и реального в автокоммуникации – примером служит картина Серебряковой «За утренним туалетом. Автопортрет» (1909) [илл. 13].
13. З. Серебрякова. За утренним туалетом. Автопортрет. 1909
2. В авангарде зеркало как трансфер вещного соприсутствия возникает в форме раздробленного зеркала (раздробленность как знак его вещной природы). Примером может служить весь кубизм, а особенно картина И. Клюна «Автопортрет с пилой» (1914), где аналитически разложенные плоскости выступают как иконическая репрезентация авторефлексии создающего свое изображение мастера (как правило, автопортрет пишется посредством зеркала). Само же представление зеркала появилось еще в преддверии авангарда в 1910-е годы – например, в натюрморте И. Машкова «Зеркало и череп» (1919), где оно маркирует иконографический тип vanitas и тем самым реализует интертекст традиции [илл. 14].
14. И. Машков. Зеркало и череп. 1919
3. В позднем авангарде, в частности, в ряде направлений конца 1920-х годов, осуществивших своеобразный возврат к символизму, встречаем отражение-фикцию объекта рассказа наподобие обманок барокко. Зеркало как некий медиатор реализует одновременно и семантику традиционного натюрморта vanitas, и семантику возможных миров в составе коммунистической утопии. Особенно показательна в этом отношении картина К. Петрова-Водкина «Новоселье» [илл. 9].
Композиция, как уже указывалось в предыдущей главе, представляет собой бытовую сцену, повествующую о празднике семьи петроградских пролетариев, поселившихся в квартире «бывших». Однако формально-семантический анализ полотна приоткрывает другие, не лежащие на поверхности бытописательского сюжета значения. Композиция построена на принципе бинарности – персонажи и детали интерьера образуют четко фиксированные пары-оппозиции: юноша/ старик, жених/невеста, мать/ребенок, венский стул / табуретка и т. п., отсылающие к главному противопоставлению: старый («ветхий») vs новый мир. В левой части композиции представлено застолье пирующих, опрокинутым бокалом и развернутым спиной к зрителю персонажем, воспроизводящим иконографическую схему евангельского сюжета – Последней Вечери. Вместе с названием (новоселье как эвфемизм переселения на тот свет в традиционных народных верованиях) эта сцена вводит мотив трагического преддверия катастрофы и/ или вступления в пространство демонического иномирья. Подобное символическое раздвоение пространства особенно акцентировано изображением зеркала, которое расположено по центральной оси и тем самым составляет ведущий визуальный мотив. То, что отражено в зеркале, образует самостоятельную картину, никак не связанную с интерьером. Репрезентирован некий повседневный, однако при этом параллельный мир: ведущую роль в нем играет будильник и ряд других сопутствующих предметов, отсылающих к теме бренности существования. Этот имагинарный натюрморт не только расширяет границы полотна, но и выступает как свидетельство виртуального третьего глаза, наблюдающего за происходящим, но не принадлежащего ему. Таким образом, полотно Петрова-Водкина, созданное в то время, когда ожившая память о символизме неизбежно накладывалась на еще недавно актуальный опыт авангарда, совместило рациональность аналитической композиции и метафизическую программу. Оно дало пример зеркала как трансфера в виде косвенного повествования о бытовом событии, возведя его в метафору эпохи и задав общей семантике глубинное измерение.
4. Наконец, в постмодернизме возникает проблематизация отношения природа/культура в рамках несобственно-прямой речи визуального нарратива. Приведем два полярных примера, выходя за пределы собственно живописи.
Первый пример репрезентирует присвоение природного: зеркало как трансфер естественной среды обитания выступает ведущим мотивом в романтическом концептуализме советского художника Франциско Инфантэ-Арана, который в 1980-е годы создает серию огромных зеркал, располагая их прямо на лоне природы – в лесу, на берегу водоемов и т. п. [илл. 15]. Отражения природного окружения зеркал ломают границу между природой и культурой, создают вторую натуру, которую нельзя присвоить, и потому она двойственна. По справедливому замечанию Джона Болта, Инфантэ решает эту проблему парадоксом, определяя художнику роль посредника между «естественным» и «не-естественным» [Болт 1989]. С семиотической точки зрения изображение в зеркале здесь выступает в индексальном значении. С точки зрения нарратива, зеркало – персонаж повествовательной структуры. Есть и третий, но он в этом нарративе как агент культуры подвержен маркированной редукции. Природа поглощает культуру посредством уничтожения подразумеваемого третьего, но это его рассказ о собственной гибели.
Второй пример показывает присвоение культурного. Речь идет о знаменитом советском фотохудожнике Борисе Михайлове (ныне проживающем в Германии)[9]. Правда, мастер обошелся без зеркала, зеркало подразумевается камерой его фотоаппарата. В серии «Case history», созданной Б. Михайловы в 1980-е годы, представлены маргиналы: обезображенные бродяжничеством и пороками бомжи, обнажающие перед зрителем свои ужасающе уродливые телеса [илл. 16]. Они обозначают границу, предел культуры как сообщества, культурой и социумом отринутые и ей противостоящие. Фотографирующиеся бомжи эпатируют зрителя, находящегося по ту сторону этой границы, посредством намеренного позирования, в котором иронически пародируется «высокое». Адресат этого позирования – камера фотоаппарата и/или зеркало, в котором в искаженном виде отражается стереотип культурной нормы. Зеркало здесь – иконический знак и метафора (камера как протез глаза/тела), является рамочным нарратором. Культура выступает как посредник самого зеркала (= природного отражения): третий в повествовании гипертрофирован до масштаба культуры в целом. В фотографиях Б. Михайлова культура поглощает природу посредством гипертрофии третьего. Получается, что третий – это имплицированное, подразумеваемое зеркало как косвенный рассказчик, который является анонимным адресантом, генерирующим и искажающим информацию. Или точнее – информация искажается глазом зрителя как носителя подвергшейся деструкции нормы.
15. Ф. Инфантэ-Арана. Серия «Зеркала». 1980-е гг.
16. Б. Михайлов. Из серии «Case history». 1980-е гг.
Два из последних приведенных нами примеров парадоксальны: осуществление перенесения смыслов происходит в ситуации, когда в первом случае (с Ф. Инфантэ-Арана) отсутствует значимый третий (косвенный нарратор), а во втором (с Б. Михайловым) – само зеркало (хотя его отчасти и заменяет зеркальная аналоговая фотокамера). Тем не менее, оба они показательны, потому что даже в ситуации редукции одного из «участников» коммуникации благодаря наличию зеркальности на семиотическом уровне сохраняется принцип трехчленности косвенной повествовательной структуры – визуального аналога людских пересудов.
О проекте
О подписке






