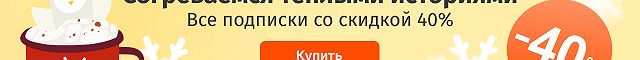
X
Время шло, дела становились всё хуже, и Грудинин всё больше погружался в мрачное, угрюмое состояние безысходности. Целыми днями сидел он перед компьютером, изучая форумы и сайты. Сетевое сообщество разделилось на два лагеря – больший – осуждавший его, и гораздо меньший – одобрявший. Но хотя мнений, оправдывавших его, было мало, Грудинин, встречая их повсюду, присматривался к ним, жадно перечитывал и запоминал их. Эти мнения были такие, что Грудинину – богатому человеку, просто завидуют бедные, что виновата мать, отпустившая ребёнка ночью, что за рулём пьют все, и покажите того, кто хоть раз не выпил, и т. д. Всё это казалось очень верным и убедительным Грудининe, а, кроме того, читая дневники этих людей, он и их самих находил симпатичными. Всё это были, как он догадывался по их рассказам и суждениям, люди успешные, предприимчивые и умные, сходных с ним, Грудининым, взглядов. Ему казалось, что мнение этих значительных людей, стоящих высоко над толпой (как он всегда ставил себя) должно быть влиятельнее мнения завистливых неудачников, которые осуждают его, и что это мнение в конечном итоге восторжествует. Он радовался этому как непреложному факту, прямо следующему из логики, и целые дни подряд ходил в приподнятом настроении. Но вдруг читал газетную или сетевую публикацию, в которой об его случае вскользь говорилось как о деле, на которое есть общепринятая осуждающая точка зрения, и это опять разрушало все надежды и погружало его в апатию.
Вообще, напряжение последнего времени сказалось на нем так, что у него как будто вовсе не стало обычных чувств, все они приняли какой-то неестественный, утрированный вид. У него, к примеру, не бывало обычной радости, а было какое-то умопомрачительное животное счастье, в котором он забывал себя и свои беды, и мир заливался для него яркими красками. Но стоило пройти этому состоянию, и возвращалось отчаяние, вдвое более тяжёлое и полностью поглощавшее его. И снова – серый свет вокруг, и – безысходность, и – холодная, мертвящая тоска. Мир его сузился до обшарпанных стен, скрипящих дверей, затоптанных полов и грязных диванов районного суда. Надменные, высокомерные голоса полицейских, отдающие короткие, быстрые команды, исступлённый вой женщин, рёв детей, униженные просьбы осуждённых. И преступники: одни – зрелые, серые, сухие и другие – юные, иногда почти дети, испуганные и беспокойные. Разбитые лица потерпевших, сломанные ноги, бинты, костыли, аптечный запах. И – жёлтое, восковое лицо судьи, пристально смотрящего из-под очков своим блестящим взглядом. В этой круговерти зла и отчаяния промелькнуло мимо Грудинина одно видение, в котором – он не мог впоследствии отделаться от этой мысли – что-то логичное, закономерное было. Словно какое-то пророчество было явлено ему в нем. Случилось это перед предпоследним заседанием, после которого уже назначено было оглашение приговора. Грудинин сидел в коридоре, в ободранном кресле, дожидаясь Буренина, оспаривавшего приобщение к делу документа обвинения. и наблюдал за женщиной лет тридцати пяти, с сухим измотанным лицом, в сером свитере с растянутыми рукавами, сидевшей со своим сыном – шалуном лет шести, который, раскрасневшись и пыхтя, отвинчивал колесо у игрушечной машины. На другом конце коридора послышались вдруг брань и матерщина, перебиваемая диким, неестественным хохотом. Поймав и посадив на руки ребёнка, женщина отвернулась в сторону. Грудинин глянул туда, откуда доносились звуки, и увидел двух полицейских, которые тащили, крепко держа с обеих сторон, упирающегося, сопротивляющегося, невразумительно и хрипло кричащего человека, видимо, по какому-то делу приведённого в суд бомжа. Что-то жаленькое, одновременно же – уродливое и до отвращения отталкивающее было в этой фигуре. Не ясно было даже – мужчина это или женщина, но чем ближе подходила процессия, тем понятнее было, что ведут именно женщину. Она была в разодранном плаще, под которым, кажется, не было никакой одежды кроме грязного, посеревшего белья. Грудинин ещё издали почувствовал исходящий от неё запах испражнений и немытого тела. Что-то, впрочем, знакомое показалось ему в этой фигуре и чем ближе была она, тем пристальнее он вглядывался в неё. Когда полицейские подошли совсем вплотную, Грудинин встал с места и сделал шаг по направлению к ним. Женщина в этот момент захрипела что-то нечленораздельное и откинула назад голову, убирая от лица сбившиеся в колтун волосы. Грудинин глянул на её опухшее, синее лицо и она вдруг, замолчав на половине звука, посмотрела на него. На секунду в её безумном взгляде появилось осмысленное выражение – она узнала его. Несколько мгновений они внимательно смотрели друг на друга.
– Лена! – негромко, но отчётливо, и – как будто невольно произнёс он.
Один из полицейских быстро окинул его взглядом и, увидев хорошо одетого человека, не решился сразу оборвать его.
– Лена! – ещё громче сказал Грудинин.
– Что надо, отойди! – крикнул на него другой полицейский, зло глянув на своего напарника. Они вместе потащили женщину дальше. Но она уперлась пятками в пол.
– А я тебе, я тебе! – хрипела она, вырываясь от своих конвоиров и оглядываясь на Грудинина. – Гад, сволочь! Сво-о-олочь! Мать, за ма-а-а-ть ответишь!
– Да заткнись, – отозвался один из полицейских, коротко и быстро двинув ей кулаком в живот.
– Же-е-нщину бьют, му-у-жчины же-е-е-нщину бьют! – закричала она, сложившись от удара пополам, хрипя, захлёбываясь и глотая воздух, и всё пытаясь оглянуться назад. – Мужчины-ы-ы-ы!
Грудинин на ослабленных, в один миг отяжелевших ногах отошёл в угол и, не глядя по сторонам, опустился в кресло. Ему как-то тяжело и душно стало.
«Что она говорила? Мать? Что там с ней? Как она изменилась так… как это вышло… за пять месяцев? Здесь, за что её? – в странной растерянности перебирал он беспорядочно приходящие на ум мысли, словно отыскивая что-то. – Как? Знала, что… что ли?»
Он глубоко вздохнул, предельно напрягая вместе с тем мышцы груди и рук, и этим сосредоточением усилий замедляя вихрь мыслей, крутящихся в голове. Это удалось.
Он вернулся на своё место, и минут десять сидел молча, напряжённо глядя на стену перед собой, и хрустя пальцами.
– С вами всё в порядке? – спросил его вдруг чей-то голос.
Он медленно моргнул глазами, не отводя взгляда от стены.
– Гражданин, с вами всё в порядке? – настойчивее повторил тот же голос.
Он не ответил. Кто-то докоснулся рукой до его плеча, и только тогда он, опомнившись, поднял голову. Перед ним, с подозрением глядя ему в лицо, прямо стоял молодой длинный полицейский лейтенант.
– Всё хорошо с вами? – спросил он.
– Да, да, я в порядке – хрипло ответил Грудинин. – Я задумался, извините.
Полицейский, ещё раз окинув его подозрительным взглядом, ушёл. Грудинин шумно выдохнул, поднялся и тяжёлым шагом прошёлся из конца в конец по длинному коридору. Физическое напряжение движения окончательно вытеснило напряжение умственное. Он несколько успокоился, расслабился, и постепенно снова обрёл свободу мысли. Он вспомнил о текущих делах, о Буренине, который должен был подойти с бумагами, и постарался припомнить – что это за бумаги, и каково их значение для дела. Но между этих рассуждений мелькала, как свет между елей в ночном лесу, одна мысль. Он старался избежать её, сопротивлялся ей, но она была всё ближе и ближе, ярче и ярче, и, наконец, заслонила собой всё.
Это была странная, уродливая, и в то же время на удивление естественная мысль.
«А ведь странно будет, если я после этого все-таки выиграю своё дело», – подумал он.
XI
– Вставай, приехали! – крикнул кто-то над его ухом и он, открыв глаза, понял, что уже нет ни дребезжания двигателя, ни тряски, и автомобиль стоит на месте. – Давай быстрее, – повторил тот же голос. Он поднял глаза на говорившего, но из-за яркого после темноты автозака света из открытой двери не увидел его. Заслоняя свет, заключённые один за другим протискивались к выходу. На улице уже слышались их перешагивания по скрипящему снегу и хрипловатые после долгого молчания голоса.
– Начальник, ну пять секунд покурить, ну ехать же сутки, – различил Грудинин один умоляющий голос среди общего гомона.
– Строиться давай иди, – ответил ему усталый и высокомерный голос конвойного. Грудинин приподнялся на месте, и, не удержавшись на затёкших ногах, спиной повалился на стенку, так что машину качнуло из стороны в сторону. Привстал снова, расправляя затёкшие руки и ноги – он и не заметил, что последние полчаса не двигаясь просидел в одной позе. В дверной проём заглянуло усатое энергичное лицо майора, командира конвоя.
– Ну что, не выходишь что ли? Помочь тебе? Сейчас помогу, – крикнул он Грудинину. – Ефимов, ну-ка поднимись, вытащи его!
Грудинин быстро, насколько позволяли силы, переставляя ставшие ватными ноги, пошёл к выходу, чтобы не упасть расставив руки и кончиками пальцев касаясь то одной, то другой стены фургона. На лестнице он столкнулся с огромным краснолицым Ефимовым, который, в кепке набекрень и сделав зверское лицо, уже ухватился обеими красными руками за облезлые поручни возле двери, намереваясь влезть внутрь.
– Что? Вышел? В строй давай! – крикнул он Грудинину, спрыгивая на землю и энергично встряхивая руками, оправляя задравшиеся рукава бушлата. – Пошёл, пошёл!
Пройдя мимо молодого, со свежим розовым лицом и пушком под губой конвойного, державшего тонкой рукой за поводок огромную овчарку, рвавшуюся и скалившуюся на заключённых, Грудинин через жирную грязь подошёл к строю. Арестантов вызывали по двое, и в сопровождении конвойных отводили к столыпинскому вагону, где их встречали другие конвойные и разводили по маленьким купе с двухэтажными койками и клетками вместо дверей. Грудинину достался в пару маленький худой заключённый, в металлических очках, с красными глазами и белобрысый, всем своим видом похожий на белую мышь. Он, шёл, весь наклонившись вперёд, словно обессиленный, с висящими как плети вдоль тела руками, пугливо озираясь по сторонам. Едва конвойный закрыл за ними решётку, он взобрался на верхнюю полку, и сразу заснул. Двое других заключённых, приведённых в купе, усевшись рядом, завели о чём-то тихий разговор, видимо, продолжая беседу, начатую в автозаке. Грудинин лёг на свою койку, чрезвычайно жёсткую и холодную, с одним матрасом, накинутым на металлический каркас, и замер.
…Этот краткий миг, встреча в суде с Леной отчего-то не выходил у него из головы. То ли так сказалось напряжение последнего времени, то ли она задела в его душе какие-то, прежде молчавшие струны – этого он разобрать не мог. Так или иначе, впечатление, ей произведённое, было грандиозно. Буренину, приехавшему в суд с какими-то новыми бумагами от экспертов, он ничего не сказал. Но, слушая, как адвокат объясняет то, что значилось в этих бумагах, какие-то уточнения и дополнения к показаниям одного из свидетелей, который, согласно новым данным экспертизы, не мог видеть из своего окна дорогу в момент происшествия, он продолжал думать об этой встрече. Энергичный и быстрый, несколько визгливый, как у всех толстяков голос Буренина, обычно успокаивающий Грудинина, теперь раздражал его, и он, сославшись на головную боль, отправился домой.
О проекте
О подписке
Другие проекты