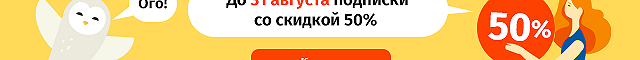
Ивану не нравилось поведение людей. В них он стал замечать искусственность, от которой так и веяло чем-то мерзким и подлым. Выделанные до ушей улыбки, тихие сплетни за спиной, жалкое подобострастие, заискивающие глаза, везде ищущие выгоду; наглое лицемерие, исключительное до того, что человек уже сам не понимает, где он откровенен, а где искусственен, подобно игре, где выигрывает тот, кто покажет больше рожиц, больше характеров и лиц, – только мы созданы жить, а не играть, вот в чем загвоздка, вот что люди забывают: перестать играть и начать жить. Сейчас он не замечал и того, что всегда двигало человека вперед, – тяги жизни. Не было чувств, не было в мыслях других того высокого, ради чего мы существуем. На лицах замерло какое-то недоумение, граничащее со страхом, проявляющееся в моменты, когда человек потерялся и не знает, что ему делать. «Кто я? Где я?» – вопрошает проснувшийся в темной комнате человек, а ответить ему может одна лишь пустота. Так говорят и их потерянные лица. Люди каждый раз просыпаются в темной комнате и молча сидят на кровати, не стараясь выбраться, ждут. А жизнь опять и опять проходит где-то вдали. Радужные краски кажутся миражом, счастье – мифом, недоступным никому в здешней далекой земле.
Эта боязнь была надуманна, иначе и быть не может – Иван думал так. Иначе и быть не может…
«Но что мне теперь делать с такой ношей? Что менять? Как говорить, когда не знаешь, что говорить? Что делать, когда не знаешь, что делать? Как Великие находили выход из сложных ситуаций, как меняли окружающих, как влияли на движение жизни? Кто им подсказывал?» И он вспоминал про озарения средь бела дня, про вещие сны и прочее.
Конечно, Филипп зайдёт к нему на днях, они помирятся, всё станет по-прежнему хорошо. Но для кого хорошо? Иван глубоко желал, чтобы его поняли на чувственном уровне, чтобы прониклись тем, что пыталась донести его бессвязная речь. Но до теперешнего момента все попытки были тщетны, Филипп не мог его услышать, хотя и, очевидно, пытался. Каждый раз начинались беседы, безуспешные попытки растолковать своему другу то, что накопилось в нем, подсказать ему или попросить его совета. Он пытался заглянуть в лицо своему лучшему другу, приоткрыть холщовый занавес, но раз за разом терпел крах.
Иван сидел на скамейке и смотрел на пролетающие мимо облака. Он поднял руку, чтобы почувствовать ветер, и легкий осенний бриз лениво пролетел по его кисти, между пальцев, мягко поглаживая кожу. Это было упоение – да, поистине упоение миром; ветер принес гармонию на сердце, и Иван был ему благодарен. Неожиданно перед глазами стали всплывать воспоминания прошлых, давно минувших лет. Он услышал детский визг, свой же детский радостный визг. Пробежал мальчик, быстро оборачиваясь куда-то назад и улыбаясь до ушей. Что-то больно кольнуло в сердце. Следом за малым бежал паренек постарше, страшно крича и выставляя руки вверх словно самое жуткое чудовище, которое скорее вылезло бы из кожи, чем упустило жертву. «Максик…» – он протянул дрожащую руку к чудовищу. Старший приостановился, мягко опустил свои белесые руки, недоуменно повернул голову куда-то вбок, туда, где сидел на скамейке взрослый человек, задержал глаза, которые уже повлажнели. «Ваня…ты так вырос», – сказал он и развернулся в сторону скамейки. «Максик, я скучал…» – на большее не хватало сил, он и так огромным усилием сдержал ком в горле. Максик подошел и протянул руку, Иван схватил её своими и почувствовал. Они смотрели друг другу в глаза: мужчина и мальчик, настоящее и прошлое, жизнь и смерть. Не хотели отрывать взгляд, не хотели терять ни секунды на постороннее. Иван старался запомнить каждую деталь его лица, каждую клеточку, чтобы хранить его образ в своей голове ещё много лет, чтобы не забыть. «Мне пора, Ваня», – сказал Максик. «Нет, побудь со мной ещё, не бросай меня, – уже со слезами просил Иван, не отпуская руки, – останься, молю, у меня ничего нет, я один…» Но Максик высвободил руку и стал отходить назад. Он последний раз взглянул на Ивана, на своего некогда младшего брата. «Я рад, что кто-то из нас всё-таки повзрослел, Ваня», – он отвернулся, поднял руки вверх и побежал, уже не намереваясь выпустить маленькую жертву из виду. Иван смотрел вслед ему, но Максик забежал за угол и пропал. «Я не забыл тебя, никогда не забуду, Максик», – он тяжело откинулся к спинке и сидел, бессознательно смотря на крыши домов.
***
Окрестности города часто заливались неистовым визгом озорников; взрослые поначалу даже не понимали, откуда берется этот пронзительный звук.
– Стройка, что ли, у нас началась где-то? – спрашивали одни.
– Неужто наконец гаражи ставят? – подхватывали другие. – Как пить дать сталь скрежещет. Афанасий Никитич, видно, будет очень рад, давно эти гаражи выбивает, уже год четвертый, если память не изменяет.
Со временем все поняли, что это никакие не гаражи, и отчаялись. Афанасий Никитич до последнего отказывался верить, вскакивал каждое утро от визга и смотрел в окно – не приехали ли грузовики с нержавеющей сталью (а она снилась ему каждую ночь), не приволокли ли кран. В итоге и он смирился, однако опечалился ещё пуще прежнего.
А дети продолжали безостановочно пищать на всю округу. Взрослые с непривычки возмущались, гнали детей. «Идите прочь, бестии! Лучше бы гаражи поставили, прохвосты малолетние!» – надрывались они. Однако, сами того не замечая, привыкли к этим детским возгласам; они стали для них чем-то родным, без чего нельзя было уже и дня провести. Полюбили они детей, прибегающих в эти окрестности в поисках приключений. В городе ведь скучно: дома, переулки, ухоженные проспекты, люди в костюмах и плащах, театры и музеи – детям там негде резвиться. Вот они и убегали на окраины – туда, где было раздолье их воровато-пиратской душе. Они визжали, кричали друг на друга, дрались и валялись в пыли, грязи, драли коленки о камни – но были счастливы, по-настоящему, по-детски. Что же может быть лучше в жизни, чем лазать по деревьям и летать на тарзанках, громить муравейники, ощущая себя властелином мира, делать из веток оружие и играть в «войнушку»? Не гаражи же.
Каждый день или точно уж через день дети прибегали на окраины и исследовали местность. Здесь было много чего любопытного: заброшенный дом какой-то графини-вдовы, которая еще веке в 19 обитала тут в своем захолустном поместье одинешенька; неподалеку от её дома раньше стояли широкие бревенчатые избы, с покатыми крышами и стропилами, с огромными окнами и прикрывающими их расписными деревянными ставнями, но теперь уже всё заросло бурьяном и кануло в Лету; была тут и церковь Николая Чудотворца, вся белая, и только крыша была выкрашена в ярко-зеленый оттенок, с бесконечно добрым батюшкой с плотной еще без седины бородой, одетым на протяжении всего дня в темную рясу, который по воскресеньям собирал всех детей, кто только приходил, в единственной невысокой колокольне, и учил, рассказывая на ходу придуманные развеселые и поучительные истории; потом был обед – обычные щи с черным ломтем хлеба, но главное было не то, что преподносят, а как: было какое-то неведомое таинство, во время еды совершалось что-то величественное, и дети поголовно это чувствовали и внимали происходящему.
Была давно запустелая и никому уже не нужная постройка, в более-менее законченных два этажа, которой, вполне вероятно, предназначено было стать чем-то весомым (возможно, даже гаражом), но злой рок распорядился стоять ей вот так, с зашпаклеванными стенами, кое-где проглядывающими кирпичами и без крыши, тихо доживая свой так и не начавшийся век, ожидая полного разрушения под воздействием всех существующих четырех стихий.
Но детвора очень любила эти забытые всеми уголки, ведь там не смотрели взрослые, и они были королями на горе.
– Мам, мы гулять, будем поздно, – каждый раз говорил Максик и прихватывал за шкирку Ваню.
– Как, уже? Да вы хоть позавтракайте, я же испекла вам оладьи.
Тогда Максик шустро подскакивал к тарелке с оладьями, один запихивал себе в рот, а второй брал для меньшого, который в это время тщетно пытался всунуть ногу в зашнурованный ботинок. Завидев еду, он останавливался, выпрямлялся и томно глядел на этот аппетитный, мягкий и вкусный оладушек.
– Я хочу со сгущенкой, – он супил брови и испытующе глядел на старшего брата.
– Нет, Ваня, запихивай оладушек так и идём, время не терпит. Помнишь, что у нас сегодня?
Ваня вспоминал, что сегодня по плану был заброшенный дом, посетить который они собирались уже очень давно, но всё не могли подгадать погоду. Священность оладушка была нарушена, он был низвергнут и бесчеловечно съеден Ваней за секунду.
– Максим, не поздно, – настоятельно просила мама.
– Хорошо, мам, – и они пускались в путь.
В дороге к ним присоединялись ещё ребята, и начинались громкие разговоры, шутки и споры. Они подходили к окраинам, где их, сами того не осознавая, каждый день ожидали жители, которым детские крики были бальзамом на сердце. Дети дружелюбно со всеми здоровались, интересовались об их самочувствии и расспрашивали о бывшем доме графини (ныне просто развалине), хотя и сами уже знали всё про него наизусть. От этого дома веяло какой-то таинственностью, словно он был из мистических рассказов Эдгара По и Лавкрафта, которыми зачитывались дети.
– А там есть привидения? – спрашивали самые маленькие ребята.
– Нет, какой там, сейчас же день, а они только ночью выходят, – говорили постарше, презрительно смотря на малолетних.
– Нет там никого, это пустой дом, – успокаивал всех Максик. Он был самый старший среди детворы, их предводитель, и они все смотрели на него с упоением и уважали, поэтому его слова подействовали.
Дом (вернее, то, что от него осталось) был кирпичный, очень большой, но одноэтажный. Крыши не было, но на земле лежали глыбы камня, красновато-серого цвета, видимо, бывшие когда-то ей, но со временем потрескавшиеся и рассыпавшиеся от зноя и непогоды. Однако стены ещё стояли прочно; где-то оголился кирпич, в других местах красовался стойкий темно-серый цвет шпаклевки. Было видно, где ранее находились двери, а где – огромные, до пола, окна. Но внутри дома чинно правил сорняк, высотой почти до пояса, так что не везде была возможность ступить. Максик шел во главе по праву самого старшего. Он становился в дверном проёме и оценивал примерный путь до следующего проема – можно ли тут просочиться или слишком много сорняка, а дети послушно толпились за его спиной. Когда только Максик ступал в помещение, бывшее когда-то комнатой, или кабинетом, или библиотекой, тогда и дети гурьбой вваливались за ним и принимались рассматривать стены, трогать кирпичи, охать да ахать. Некоторые важно выглядывали в окно и воображали себя графом (который здесь никогда не жил) или почетным гостем, осматривающим владения своей пожилой знакомой.
Так они переходили из комнаты в комнату, дружно и молча. Один из бравых смельчаков заметил, что в стене имеются выступы, по которым можно забраться на самый верх стены. Он собрал всех вокруг:
– Друзья, товарищи (он подражал Ленину, хотя видел только пару картинок в журналах и едва ли знал повадки вождя революции), в это непростое время, когда мы с трудом одолеваем сорняк, я хочу забраться вот на эту стену, – он указал на небольшую, метра в четыре, и толстую стену, возвышающуюся на ними; некоторые даже открыли рты, а он продолжал: – Я хочу забраться на эту стену, дабы вконец переломить войну против этого живучего врага, бесстыдно заполонившего весь дом.
– Не надо, тут высоко, – настоятельно сказал Максик, несмотря на радостные возгласы ребят.
– Да я мигом, одна нога тут – другая там, – он выпятил грудь и поднял голову, как заправский воин.
– Ты маленький, я сам посмотрю.
Гордость воина была попрана, он не смог смириться с таким унижением и растворился в толпе. Давно его не называли «маленьким», он и забыл уже, каково это.
– Максик, может, не надо? – спросил Ваня, весь разговор стоявший в стороне и тоже смотревший на стену с открытым ртом.
– Ваня, не переживай, я аккуратно. Посмотри, какие широкие выступы, – он наступил на один и занял всего половину; на второй спокойно поместилась бы ещё одна ступня. – Тем более нужно и правда обозреть, много ли нам ещё исследовать.
И он полез наверх, медленно и бережно, а все мальчишки стояли и смотрели на него, волнуясь. Они любили Максика, всем он был словно старший брат, добрый и храбрый. Он карабкался, выступ за выступом, проверяя каждый новый ногой и рукой. Через несколько минут он забрался на самую вершину и стал оглядываться.
– Ну как там? – неугомонно спрашивали ребята.
– Красиво там, – отвечал Максик и озирался. Подняться на несколько метров над землей хватило, чтобы по-новому взглянуть на мир. Открылось поле вдали, заросшее чем-то желтоватым и высоким и убегающее к горизонту. Оно врезалось в могучие темные деревья, стремящиеся к небу, которое покровительственно положило на них свое размашистое крыло. С другой стороны открылась речка, из-под воды которой робко выглядывали валуны, разрезая воду. Над ней летали птицы, то падая вниз, будто желая освежиться в этой кристальной водице, то поднимаясь обратно в вышину. Максик посмотрел на окраину, с которой они пришли: виднелись серые спичечные коробки, стоящие совсем близко, что можно было подумать, будто они от старости признательно облокачиваются друг на дружку.
– Много дома осталось? – не могли угомониться ребята.
– Нет, – он глянул и увидел, что осталась всего пара комнат.
Подул ветерок и так нежно обволок все его конечности, что Максик, в неге, закрыл глаза и раскрыл руки, представляя себя летящим.
– Максик!
Он услышал крик и опомнился. Тело его стало падать назад, к ребятам, но крик вернул его в сознание, он успел поставить ногу на край стены. «Фух!» – подумалось ему.
– Все хорошо, ребята, я спускаюсь.
Он медленно спустился, и они пошли добивать оставшиеся части сорняка, скрывающиеся в этом доме.
Так часто и проходил их день – в приключениях, исследованиях, играх и забавах. Дети возвращались домой счастливые и полные жизни и желания на следующий день опять окунуться в пучину походов и странствий под предводительством Максика.
Но в один день нить странствий оборвалась, цепочка великих походов разлетелась вдребезги о веретено судьбы.
Ваня сидел в своей комнате на подоконнике и смотрел в окно на ворон, как вдруг услышал пронзительный крик. Он приоткрыл дверь и изумленно вышел из комнаты. На полу около ванной на коленях сидела мама, рядом покойно лежал Максик; над ними ещё стоял папа. Тот быстро глянул на маму, потом резко на Максика и невольно отстранился к стене, закрыл лицо руками. Потом опомнился, побежал к телефону и начал что-то лихорадочно в него объяснять. Мама сидела и рыдала, хлопала Максику по щекам и трясла голову, проверяла пульс, переворачивала на спину, звала его и умоляла перестать, а он не отзывался. Максик ушел. Далеко и навсегда. Она взяла его на руки и всё ещё звала, упрашивая вернуться. Но никто не внял её мольбам, Максик остался глух. Бледным вернулся отец, опираясь всем телом на стену, словно бы не мог идти сам. Ноги его подкашивались, глаза не видели ничего и были мокрыми. На щеках были глубокие ручейки слез, стекавшие параллельно друг другу. Он сел у стены, не смотря на маму и Максика, стал рвать на себе волосы и затем спрятался в коленях, все вопрошая: «Почему же? За что?»
Ваня всё стоял, смутно понимая, а слеза уже падала по его розовой щеке.
– Мама, зачем ты его качаешь? – спросил он.
– Ваня, уйди…
– Мама, зачем ты его качаешь? – крикнул Ваня. Он видел, что Максик не двигается, что бесполезно его качать. – Что с ним, мама?
– Сынок… – она снова зарыдала и уткнулась лицом в мертвое тело.
Ваня стоял и не знал, что делать. Слезы проступали у него на глазах, к горлу подходил огромный ком, руки начинали трястись. Он бросился к Максику и начал его тормошить:
– Вставай, Максик, идем на улицу, к ребятам. Они же ждут тебя, вставай, они же ждут, Максик…
Он перестал что-либо видеть, перед глазами возникла пелена, закружилась голова, стало тошнить. Ваня рухнул без сил на маму всем телом, голова его уткнулась ей в ногу, и он зарыдал во весь голос, стуча свободным кулаком об пол. Потом он перестал и просто лежал на её ноге, не двигаясь, уставившись в темноту своих глаз. Мама рыдала вместе с ним, плакал и отец. Лишь мертвое тело безучастно растянулось на руках матери.
– Отнеси его в комнату, – едва проговорила мама отцу, кивнув на маленького Ваню, – отнеси.
Ваня слабо почувствовал, что его подняли, сразу же провалившись во что-то тяжелое и глубокое.
Приехала скорая, забежали врачи, стали щупать пульс, разводить руками и говорить, что надо увезти в больницу для вскрытия…
Максика забрали, родители поехали с ним в больницу.
Вскоре его похоронили, в дождливый день, когда не светило солнце, не пели птицы, не резвились дети. Мир плакал по нему, по доброму и смелому. Он умер, неожиданно, случайно, когда никто не подозревал. Он ушел по-английски, не попрощавшись, не сказав никому и последнего своего слова, – и от этого родным было ещё тяжелее. Родители не могли принять это, не понимали, почему это самое несчастье произошло с ними, что же они такого натворили, что Бог отнял у них старшего сына, не предупредив об его скором уходе. «Зачем? Почему?» – надрывалась мама каждый вечер. Отец замолчал и потускнел.
Максик умер от остановки сердца. Никто из врачей не мог сказать, по какой именно причине вдруг у здорового мальчика остановилось сердце, когда он умывался. Он последний раз улыбнулся во весь рот себе в зеркало, глянул на свои взъерошенные волосы, попытался их прилизать… Но в глазах потемнело, и он медленно скатился на пол по закрытой двери. Тихо и безмолвно. Шум воды скрыл от семьи его уход. Шум воды – и ничего…
Звон капель о камень жизни, темнота, мрак; заблудшая душа сидит и покорно внемлет голосу воды, который что-то бормочет, но точно отвернувшись.
– Привет, это я, Максик, – говорит он, – я пришел к тебе.
Но голос продолжает бубнить в другую сторону. Беспечно течет река – Стикс ли, Коцит ли. Из тумана показался фонарь, подвешенный на трость, лодка… Он отвернулся и закрыл глаза, чтобы уйти совсем, на покой. Голос замолк, пропал стук капель. Он упал назад и повис, в тишине и забвении…
***
Иван отошел от воспоминаний и уже тихо сидел на скамейке, положа ногу на ногу, откинувшись к спинке и положа руку на неё, но всё пристально смотрел куда-то вдаль, не осознавая окружающего.
Мимо сновали соседи, каждый здоровался, но Иван воспринимал их «Здравствуйте», только когда они сворачивали с дорожки на улицу; оно отдавалось эхом в его голове.
Бесплатно
Читать книгу: «Сентябрь»
Установите приложение, чтобы читать эту книгу бесплатно
О проекте
О подписке
