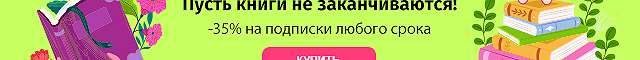
Новые виды промысла, например, обмен либерального красноречия на реальный капитал, он не освоил, даже трудно сказать почему. Скорее всего, оттого что поборники свободы слова, обличая язвы минувшей жизни, как ему казалось, пеклись больше всего о праве защищать неправое стяжание и при случае искренне и бескорыстно приторговывали своим «свободным словом».
Коты дали мышам свободу говорить и писать о них все, что захотят. И мыши осмелели, и мыши поздравили себя с великим завоеванием… И коты согласились с мышами в том, что именно свобода говорить о котах правду должна почитаться высшей наградой для мышей, для себя же коты нашли другие вознаграждения.
Объявленное «новое мышление» было для Алексея Ивановича повторением задов двухсотлетней давности. Читанный в институте Дж. Стюарт Миль предсказал наступление этого «нового мышления», а Мережковский в своем повсеместно поминаемом, но большинством не читанном «Грядущем хаме» объявил и пришествие носителя «нового мышления», упоенного собой мещанина. Забыть это пророчество было невозможно.
Сознание неодолимости стихий может быть утешительным, оно могло бы настроить Алексея Ивановича на созерцательный лад, если бы «созерцание» самодовольной пошлости могло доставить ему утешение.
Многие профессии, как известно, накладывают на людей особый отпечаток. Участие в течение почти тридцати лет в подборе и утверждении актеров на роли выработало в Алексее Ивановиче особого рода чутье на фальшь, на человеческое притворство. И так же, как уже по кинопробам, он мог с большой уверенностью предсказать, насколько достоверно будет исполнена предлагаемая роль, так же и в жизни по нескольким фразам он мог оценить меру искренности или лицедейства своего собеседника.
И то, что в работе на киностудии могло почитаться даром, в быту, в житейском обиходе оборачивалось едва ли не проклятьем.
От родственников он тактично скрывал свою способность за словами и поступками видеть их скрытый смысл, понимая полную бессмысленность и чреватость неизбывными конфликтами обличения фальши.
Тяготило это грустное зрение, не оставлявшее места для спасительных заблуждений, даже в отношениях с женщинами, как правило, верящими в искренность своего притворства больше, чем все окружающие. Сочиненная женская непосредственность, казавшаяся сочинительницам безусловно притягательной, вгоняла Алексея Ивановича в печаль, которую, естественно, до поры до времени приходилось скрывать, ну, а потом, как говорится, в охапку кушак и шапку…
Иное дело лицемерие вождей и предводителей. Лицедейство политиков и подтанцовывающих им журналистов и писателей, доверчивость падкой на обман и посулы толпы – все вызывало в нем глухое отчаяние, и он его не скрывал. В изрядно поредевшем кругу приятелей и знакомых он был зачислен в безнадежные ретрограды и ворчуны.
Неизменный капитал оставался только в прошлом, впрочем, его активы, как старые купюры, постепенно изымались из употребления. Он бросился перечитывать Гоголя, Герцена, Толстого, Гончарова, находя в этом чтении слабое утешение, жизнь, оказывается, в большей мере меняется по внешности, люди же почти и не меняются. Ну разве не всегда, не во все времена заискивали пред властью?
И ничего нового не было ни в подхалимстве по страсти, в лакействе по убеждению, в угодничестве по вере в целебные свойства частной собственности, даже и уворованной. Когда на глазах стали линять партийные карьеристы высокого ранга, когда стали «громить» и «разоблачать» хорошо вскормивший и особенно вспоивший их режим, Алексей Иванович вспоминал, что первыми в марте 1917 года, после падения самодержавия, в Государственную думу пришли дворцовые слуги, лакейское племя из Зимнего дворца, наследственно пользовавшееся царскими милостями. Пришли чуть не всем табором, чтобы заклеймить старый «ненавистный» режим и порадоваться новым господам.
С обязательностью, не замеченной в нем ранее, Алексей Иванович стал наведываться на кладбище, и не только на могилы своих родителей, умерших чуть раньше, чем умерла та жизнь, что была их судьбой, но и на могилы родственников и друзей, поубравшихся в последние годы.
Вот и маршрут поездки возник в тайной надежде убежать в прошлое, но не то, которым без конца пугают, а исключительное в свое, в края своего детства. Благо Славка, друг с 1946 года, помор из Кандалакши, так и не потерявшийся на житейских перепутьях, тоже вышел на пенсию и звал к себе побродить по сопкам, побегать по коргам, лесистым островам в Белом море, пожить и порыбачить на безлюдном Терском берегу сколько позволит придвинувшаяся осень.
Приняв это решение, Алексей Иванович не то чтобы помолодел, он и так не чувствовал себя стариком, а просто почувствовал легкость, освобождение, ребяческую удаль, то чувство, с которым мотали уроки, ездили смотреть футбольный матч «Адмиралтейца» с прибывшими аж на авианосце с визитом вежливости английскими моряками.
Да, путешествие обещало что-то неизведанное и замечательное и ни к чему не обязывающее.
Однако не покидавшая душу тайная тревога, знакомая людям, начинающим жить в чужой стране, не покидала его. Всякая шероховатость на пути осуществления замысла сразу же вновь и вновь отбрасывала к вопросу, на который всерьез ответа не было и быть не могло: «Зачем я еду?»
Вот и соседка всем своим видом излучала не то чтобы недоброжелательство, но какое-то необъяснимое напряжение, которому находить объяснение Алексей Иванович даже не пытался, но чувствовал его вполне определенно. И не для того собрался он в дорогу, не для того придумал себе путешествие, чтобы что-то преодолевать, кому-то противостоять и терпеть чью бы то ни было необъяснимую враждебность. Соседка была совершенно не из того замысла, который казался Алексею Ивановичу легким и счастливым, когда он наконец-то решился поехать.
Может быть, еще лет десять назад такая попутчица показалась бы ему женщиной с загадкой.
Но где вы, благоуханные незнакомки, пробуждающие любознательность и смутные упования!
Алексею Ивановичу не хотелось отгадывать загадку и проникать в тайну, которая, быть может, называется шестнадцатый аборт, приступ гастрита, ссора с мужем или потеря перспективного любовника.
Алексей Иванович стоял в коридоре, повернувшись лицом к открытой двери в купе, и просчитывал ближайшее будущее.
Поезд почти бесшумно тронулся и поплыл.
Соседка, будто они уже поссорились, с демонстративным вниманием разглядывала железнодорожную неприглядность, окружающую недальние подступы к вокзалу. В этом преувеличенном внимании к нагромождениям вагонных скатов, к вросшим в землю вагонам, обращенным в подсобки и сторожки, к длинным пакгаузам и вереницам электровозов, похожих на спарившихся стрекоз, было показательное невнимание к соседу, по крайней мере, тому так показалось.
Поезд еще не набрал скорость, словно гончая в поисках следа, шарахался на стрелках то вправо, то влево, отыскивая свой единственно верный путь, чтобы по нему уже пуститься во всю мочь.
Соседка повернула голову в сторону открытой двери и, не удостоив Алексея Ивановича взглядом, беззвучно шевельнула губами, видимо подразумевая в нем способность читать по губам, после чего встала и решительно задвинула дверь.
Вагон был заполнен едва ли наполовину, а может быть, и того меньше. Народу в коридоре не было, а двери были распахнуты только в двух купе. Цены стали кусачие, особенно на комфортабельную езду, да и время осеннее, когда народ в основном прибивается к дому.
После минутного раздумья Алексей Иванович подошел к проводнице, но вместо того чтобы попросить отдельное купе решительно, с присовокуплением «благодарности» или хотя бы обещанием таковой, залепетал что-то для самого себя неожиданное.
– Извините, я думаю, женщине будет удобнее без мужского соседства…
Проводница вскинула на него откровенно изумленные свежевыщипанные бровки, узкие полоски тусклой кудели на воспаленных от недавней прополки грядках.
– Если можно, я перешел бы в другое купе… чтобы не стеснять даму…
Перелистав кожаный потертый бювар с гнездами для билетов, наполовину пустыми, с каким-то вздохом, словно она перекладывала не невесомый билет из одного кожаного гнезда в соседнее, а собственноручно переносила докучливого пассажира вместе с багажом из одного купе в другое, проводница, помотав вдобавок головой, давая понять, как же она рискует, наконец, произнесла: «Попробуйте в шестое… там одиннадцатое не занято».
«Наверняка же есть вообще свободное купе», – возвращаясь к себе, подумал Алексей Иванович и в очередной раз огорчился своей неумелостью в решении простейших житейских задач.
Дверь в его купе уже была наполовину открыта. Соседка предстала облаченной в дымчатых тонов не то дорожную пижаму, не то брючный костюм для дома.
Наряд, как заметил Алексей Иванович, лишенный свойственных дамской одежде минимальных подробностей в отделке, казался немножко арестантским, впрочем, строгим, как и сама хозяйка.
О, дань времени!
Сегодня щегольнуть воровским словечком, знанием «блатной фени», значит дать понять о своей приобщенности, о своем пребывании на короткой ноге с духом времени и готовности с волками разговаривать исключительно на доступном им языке… Вот и женский костюм – барометр эпохи. Во время войн и революций то красная косынка на голове была знаком верности знамени революции, то полувоенные пиджаки и блузки, похожие на гимнастерки, сообщали о женской солидарности с теми, кто надел военную форму. Наверное, и нынче чуткие модельеры готовы внести мотивы арестантского наряда в свои изделия.
Для Алексея Ивановича было полной неожиданностью то, как взглянула на него, как вскинула, наконец, свои, оказывается, довольно выразительные большие глаза соседка, когда он взял куртку, сумку и произнес: «Извините. Покидаю».
Она посмотрела на него так, будто бы он сказал ей, что выходит прямо сейчас, на всем ходу в окно.
В ответ на этот удивленный взгляд Алексею Ивановичу ничего не оставалось делать, как с простодушием готового к услугам кавалера сказать: «Я буду в шестом купе».
О, она так выдохнула, почти фыркнула, словно ей сделали неприличное предложение, и тут же обратила свое лицо и полные любознательности глаза к железнодорожным подробностям и окрестностям за окном.
Господин случай! Из всех сочинителей ты самый непредсказуемый и самый неразгаданный, не считающий нужным хоть как-то, хоть когда-нибудь объяснить свой замысел, свою природу.
Кого должен был благодарить Алексей Иванович?
Того, кто испортил этой молодой особе настроение, или Творца, наделившего ее дурным характером в наказание человечеству за тяжкие грехи и прегрешения средней тяжести?
Кому должен быть признателен Алексей Иванович за демонстративную неприветливость, внесенную соседкой в купе?
«Кто-то наступил ей на мозоль?»
Его следовало бы найти и пожать ему руку.
– Разрешите? Я к вам, – проговорил Алексей Иванович, постучав и открыв дверь в шестое купе.
Сосед лежал поверх одеяла с поднятыми коленями и был похож на деревянную складную плотницкую линейку, плоскую и угловатую.
Алексей Иванович взглянул для верности на номер свободного места и начал располагаться. Занятый хлопотами устройства, он не обратил внимания на то, как смотрел, готовый что-то сказать, вроде даже и возразить, его новый попутчик. С каким-то особенным напряжением сосед следил за каждым движением вошедшего, за тем, как тот вешал свою куртку, извлекал из сумки туалетный прибор и доставал домашние тапочки, завернутые в газету, казалось, что во всех этих бесхитростных действиях новый попутчик хочет увидеть какой-то особый, скрытый смысл.
Наконец Алексей Иванович уселся, хлопнул себя слегка по коленям, как бы ставя точку, и кратко объяснил свое появление.
Сдержанный кивок в ответ не предполагал скорого перехода к вынужденному знакомству.
Посетовав на то, что пассажирам не выдают две подушки, как это заведено в «Красной стреле», на «Полярную стрелу» это правило не распространялось, Алексей Иванович откинул подушку к стенке, устроился с возможными удобствами и достал из сумки припасенную в дорогу книгу.
Внимательно наблюдавший за ним сосед был человеком длинным, с ровным, как доска, телом. С виду человек строевой, вроде бы интеллигентный…
Возраст?
Трудно сказать. Дашь сорок пять, окажется шестьдесят. Дашь шестьдесят, окажется сорок семь. Так выглядят спортивные тренеры и заядлые альпинисты, продлевающие свою молодость до бесконечности, одни за счет общения с молодыми людьми, другие – за счет занятий, требующих бодрости и крепости духа без оглядки на возраст.
Может быть, мысль о тренерстве и спорте подсказывал старомодный, но вполне добротный костюм «олимпийка», в который сосед был облачен.
Желая обеспечить себе в поездке душевный комфорт, Алексей Иванович хорошо подумал, стоя дома перед книжной полкой, прежде чем взять книжицу, как раз такую, чтобы в мыслях быть как можно дальше от размышлений о целях и смысле своего бегства.
Итак, были приняты меры к тому, чтобы сполна насладиться прочным покоем и с книжкой в руках прикоснуться к чужому счастью.
Замысел поступка необязательного сродни капризу, который может себе позволить лишь сугубо свободный человек. Итак, замысел приведен в движение, первые, как бы неизбежные препятствия сметены, а главное, развеяны, наконец, душевные сомнения в необходимости всего предприятия.
Мягкое покачивание вагона и негромкий цокот колес сообщали движению музыку скачки, той, что всегда сродни полету.
И если бы в поездке была только одна задача – удрать от себя нынешнего, загнанного в угол, то можно было заметить, что, расположившись наконец-то со всеми удобствами, он уже начал вкушать сопутствующие побегу легкость и освобождение.
Алексей Иванович не спешил раскрывать книгу, зная, что и на ее страницах он будет парить вдалеке от той никчемной, чужой, будто бы одолженной у кого-то жизни, которая длится уже неведомо зачем.
Впереди была пара беззаботных недель.
Впереди было целое сентиментальное путешествие!
Счастье случайно, мимолетно, кратко, но оно и должно быть таким.
Алексей Иванович раскрыл книгу в предвкушении встречи со старыми знакомыми и тут же почувствовал себя так, словно у него во рту оказался дождевой червяк или влетела какая-то непрошеная муха…
«Наведи! наведи! наведи порядок на полках… Некогда? Завтра? Пожалуйста! Наслаждайся. Удовольствуйся!..»
Умиротворение, только что снизошедшее на Алексея Ивановича, разлетелось в одно мгновение, и тут же подступило ожидание всяческих досад, докук и сомнение во всей затее с этой поездкой, что повергло путешественника в уныние, казалось бы, совершенно несоразмерное оплошности.
Скорее всего, предыдущая жизнь, особенно жизнь последних лет, зыбкая и тревожная, заставляла быть постоянно настороже, в готовности к разного рода неприятностям.
Подобную реакцию на пустяковое, в сущности, происшествие можно объяснить лишь особого рода неврастенией, может быть, действительно стариковской, когда все болезни уже кажутся последними, а все беды непоправимыми.
Оказывается, после долгих раздумий, перебрав на полке чуть не с десяток книг, претендовавших стать спутниками в дороге, Алексей Иванович взял стоявший почему-то рядом с Фитцжеральдом производственный роман Дм. Ложевникова «Знакомьтесь – Кукуев!», благо оба были в коричневом переплете с тиснеными золотыми буквами на обложке.
…Соседка с прокисшим лицом, книжка, которую давно уже надо бы выкинуть из домашней библиотеки, неумение договориться с проводницей о желанном одиночестве тут же пробудили предчувствие надвигающихся мелочей, способных отравлять путешествие на каждом шагу.
Может быть, это только начало?
Он бросил книжку на покрытый белоснежной салфеткой столик, как проигравший кидает на стол карты, свидетельствующие о его поражении и отказе от борьбы.
О проекте
О подписке
Другие проекты