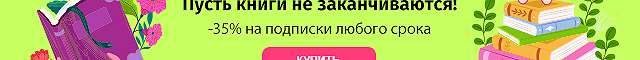
«Я марсианин». Революционное метапоколение
Михаил Гефтер: Простая ли тема – свое поколение? На самом деле затруднительная. Человеку трудно быть откровенным до конца, и грешно от него это требовать. Но затруднительно и по другим причинам. Станиславский где-то говорит: я родился при крепостном праве, когда дома еще освещались восковыми свечами. Если меня спросят: «А вы?» Если так начать книгу, что бы я сказал? Что родился в провинциальном городе Симферополе, где воду развозили в бочках и продавали? Что во двор приносили горячие бублики с маком? Как-то невыразительно это все, правда? Я из мира, которого уже нет. Сам я по прихоти судьбы есть, а мира, который мой, где я вырос, где потерял лучших друзей и множество близких, – этого мира уже нет.
Когда я пытаюсь вернуться к точке Мира, которого уже нет и откуда я, – что там, в опустевшем, осталось? Все вычеты произвели: кто там, не финал ли феллиниевых «Восьми с половиной»? Уже не живые – тени, призраки, а посреди них мальчик играет на флейте. Заменим его мальчиком Мишей, играющим на пионерском горне. В пионерском отряде решили сделать костер из молитвенных книг, и он просит у бабушки отдать ее еврейскую молитвенную книгу… И моя мудрая бабушка, любя внука, отдает! Она сняла только старинный переплет, оставила себе на память. Ужаснуться, пожалеть этого мальчика с пионерским горном? Сказать следующим: глядите, какими они были, – на ваше счастье, их нет и уже не будет?!
Тут всплывает расхожее слово: поколение.
Кем определяется поколение? Вероятно, детьми. Когда в XIX веке Иван Тургенев написал «Отцы и дети», Федор Михайлович Достоевский сказал: надо бы назвать «Дети и отцы». Верно – отсчет от детей, а отцы оказываются предшественниками. Это дети их делают прошлым поколением. Всплывает вопрос отсчета поколений: конфликт детей и отцов, он разве бывает в каждом поколении? Нет. Тургенев в 1850-1860-е годы: Базаров, конфликт, схватка! А в 1880-е годы яростные, непререкаемо идущие к цели народовольцы – дети благополучных родителей. Конфликта детей и отцов в их семьях почти нет.
И сколько вообще было этих громких конфликтов? Один в 1950-1960-х XIX века. Следующий – после Октября, в 1917–1919 годы.
Состоятельные дети шли в революцию, – и опять разрывы, переворачивания… А далее, пожалуй, только в 1950-1960-е годы нашего века, когда в послесталинское время снова вспыхнул конфликт детей с отцами. А сейчас есть он, конфликт поколений? Его нет! Но тогда и поколения нет?
А что было между? 1920-е, к началу 1930-х, – конфликт детей и отцов, 1950-1960-е – конфликт детей и отцов. Между этими двумя конфликтами нечто большее, чем поколение, – метапоколение. Не на одно лицо, не одной судьбы, но с множеством роднящих могил и переизбытком смертей, сближающих людей. Метапоколению, расположенному между двух конфликтов детей и отцов XX века, трудно дать определение. Как назвать это метапоколение – постоктябрьским по хронологии? Постреволюционным по образу действия? Социалистическим – по той цели, надежде, иллюзии, которая двигала активным меньшинством, которое и образует лицо поколения?
Что вынести за общую скобку? Не буду оригинален: это прежде всего отношение к истории, странное, теперь трудно передаваемое. Непередаваемое ощущение, что не просто соучаствуешь в истории – ее творишь. Ты в ней постоянно присутствуешь. Утром встал – и ты в истории; спать ложишься – в истории. Все, что тебя окружает, эфир жизни, – все это история. Ты в ней, она – в тебе. Это сильное чувство? Да! Страшное? Должен тебе сказать – да. Это растворение в истории, когда все, что вне ее – обычное человеческое существование, – не исключается, но его почти не замечаешь. Оно не в цене, а в цене то, что в истории и что зовется историей.
Такое сознание можно назвать романтизмом, фанатизмом – как угодно! Гримасой этого ощущения остались советские словесные штампы. Каждый пленум был наперед «исторический»; каждый съезд уже заведомо исторический, каждая встреча и речь – исторические… А уж каждое слово ОДНОГО – не подлежит сомнению, что оно историческое! И Сталин так выговаривал слова, чтобы мы их действительно историческими ощущали.
Состояние, когда все измеряется историей, – двигатель людей страшно сильный, но и яма провальная. Пошлое выражение «война все спишет» вытекало из ощущения, что история списывает все. Жертвы ей принадлежат по праву, история и жертвы – едино суть. Жаловаться или быть готовым стать жертвой?
К этому прибавь плотность времени. История очень плотна, хотя, конечно, это иллюзорное переживание. Уплотнение времени обусловлено растворением в истории, которая, в свою очередь, немыслима без жертв. Оно зовет тебя, оно указует и врагов. И все где-то сводится к понятию, идущему от времен раннего катакомбного христианства: новая тварь, Судный день. А у нас – революция и новый человек! Но с человеком старым как быть? Если кто-то из новых «устаревает», как быть с такими? Вычеркнуть их – и тебе нужно соглашаться с вычеркиванием. Раз в основе всего новые люди, они в фокусе истории, появляются новые старые – отсталые, устаревшие, подлежащие вычеркиванию. Они первые кандидаты в жертвы, и чему удивляться?
Недавно, в третьем номере журнала «Источник» за этот год (1994), напечатана речь Сталина на военном совете после уничтожения Тухачевского и других полководцев. Страшная речь, но очень важная. У Сталина там примечательнейшая по откровенности и точности фраза: наша сила – люди без имени! Те новые люди, что пришли во власть после Октября, были с громкими именами, но теперь пришла пора других новых – тех, кто без имени. Их множество, и они наша сила. «Люди без имени» – они тоже из моего метапоколения.
Наше метапоколение совестливым было или бессовестным? Замечательный человек первой эмиграции Георгий Федотов, говоря про имморализм Ленина, имел в виду, конечно, и нас – тех, кто от Ленина. Дословно имморализм означает безнравственность, но не корыстную безнравственность по расчету (хотя и была такая). Не одну безнравственность из карьеристских соображений. Имморализм – это низкий, на ноль сведенный иммунитет к безнравственности.
Селекция по убыванию человечности не слишком замечалась моим поколением. А почему? Раз все есть история, а та всегда в действии, вечно в спешке, то что может дать истории оценку вне ее самой? Где поместить нравственную оценку вне самого действия?! Десять заповедей? Не надо обманываться: когда история правит бал, когда действие вербует людей, эти люди рвутся вперед, в бой! Готовые соглашаться с тем, что убывают, исчезают, уничтожаются многие из них. Если есть на это совестливое разрешение, то быть ли ему вне действия, вне истории? Все, что вне, не сработает. А все, что внутри, работает на потребу истории.
Но это мы, отождествив себя с историей, сотворили многое благодаря этому. Это мы в 1941-1942-м смертями друзей остановили Гитлера. Мое поколение не может считать себя не в ответе. Нам пристало честно рассказать о нашем имморализме, а тем, кто пришел после, – выслушать нас и подумать о себе. Такая встреча, такой разговор были бы полезны.
Слабость публицистических сочинений о том времени – во всех воспоминаниях время течет ровно, изо дня в день. Между тем процесс шел асинхронно. Неверно, что Сталин владел нами с момента появления у власти. К тому шло – и пришло, но не до конца. И шло-то не в едином строю. Сокровенный момент, связанный с именем Сталина, – вытаптывание различий. Приведение всех к тождеству реакций, оценок, эмоций. Однако не только в том дело, что Сталин не мог уловить все души сразу, а в том, что, улавливая, ему самому приходилось учиться преодолевать сопротивление наших душ. Существенна асинхронность процесса.
В начале 1930-х – страшная человеческая перетасовка, именуемая сплошной коллективизацией… Но к тому же порогу человеческий талант, поэтический гений в литературе достигают высот, освоив свершившееся в людских судьбах после революции. Что же, они заодно – коллективизация и Эйзенштейн? Сталин и воронежский Мандельштам? Ягода и Андрей Платонов? Странный расцвет советского кино того времени сопоставим со взрывом итальянского неореализма, а литература – с пришествием латиноамериканского романа.
Асинхронный, глубоко не-единый процесс Тридцатых. В судьбах и людях будто бы рядом идут два процесса: нарастающая индивидуализация – и агрессивное усреднение. Забылось, как усреднение нарастало. Интереснейшие эпизоды возникали! После долгого пребывания за границей возвращается в СССР Эйзенштейн, автор потрясшего мир «Броненосца “Потемкин”». С удивлением обнаруживает новое советское кино, где уже не восставшая масса, не толпа выступает творящим себя героем, но вдруг появились одиночки, индивидуальности. «Подруги» Арнштама или «Чапаев» Васильева. И сам я в мои университетские годы принадлежу к счастливому срезу студенческой жизни. Мы были все очень родственны, очень близки: выходцы из средних школ, в большинстве с аттестатами отличников – и все очень индивидуализированы. Это ничуть не мешало, это нам помогало. И эти индивидуальности, для вас якобы на одно лицо, – погибли в два считаных дня, когда наша ополченческая дивизия попала на острие немецкого танкового клина. Вот судьба молодых интеллигентов.
Вот замечательный, мой любимый рассказ Шукшина, рассказ-притча. Лето, колхоз, страда уборочная. Председатель колхоза, пожилых лет человек, не спит, а на улице горланят песни: молодежь гуляет, второй, третий час ночи – завтра же на работу! И дочка неприкаянная, не нашедшая себя… Вот он выходит на улицу, чтоб урезонить их, разослать по домам. Возвращаясь, ложится в кровать рядом с женой, как вдруг – видение ему, воспоминание детства, когда отец взял их с младшим братиком в ночное, пасти лошадей. Кони, ночное небо, братик внезапно заболевает – то ли скарлатина накатилась, то ли ложный круп. Он хрипит, синеет, и отец говорит мальцу – на лошадь, скачи за врачом! А брат умирает, но в памяти у него – эта ночь и он сам, скачущий на коне! И вдруг он себе признается: ничего в моей жизни, кроме этого, не было – ни-че-го. Там я был вольный, свободный, птицей мчащийся на коне! А после сказали: жениться надо – я женился. Надо служить в армии, родину защищать – я служил. Надо было – пришел восстанавливать колхоз. И вся жизнь из одних «надо» и «должен», а в памяти – только та ночь!
Вот я о чем: этих людей окружающее усредняло с нарастающей силой, – и не усреднило, не смогло! Оказалось неспособным усреднить до степени, когда бы утратилась, хоть в памяти, их индивидуальность. Поэтому, когда при мне говорят: «Есть такое выражение: тоталитарная личность», для меня это просто глупость или ложь. Какая может быть «тоталитарная личность», пока она личность?
Был остаток недовытаптываемой индивидуальности. В рамках тоталитаризма, который, несмотря на усилия, при смертях, им несомых, им втесняемых идей, не смог всех свести к одному. Не имея этот феномен в виду, не объясните войну. Не объясните 1941-й, 1942-й с «Василием Теркиным» – странной поэмой, которая была на устах миллионов солдат, но где нет ни одного упоминания партии. Кроме единственной иронической фразы командира дивизии: «Твой цека и твой Калинин» – как это объяснить?
Ведь вот какая вещь: говоря, я пытался войти в корень этого моего «метапоколения». В его отношение к истории, которой, думали мы, Сталин руководит, Сталин ведет. А оказалось, наоборот – это история Сталиным распорядилась, подобрав соответствующий персонаж. Но что происходит далее с поприщем ненасытной всеприсутствующей истории? Она начинает распоряжаться любыми помыслами, любыми человеческими судьбами. Люди вроде бы действуют, но в конце тяжкой коллизии, где могилы, кровь, война, – возникает то, что Герцен замечательно назвал простором отсутствия.
Тут подхожу к самому существенному. Разные родословной и происхождением режимы Гитлера и Сталина, отличные во многих отношениях, шли навстречу друг другу. Уничтожением людей? Да. Но еще и покушением на индивидуальную смерть человека. Дело дошло до точки, где человек остался один и наедине с собой принимал решения о своей судьбе, как в 1941-м, когда рушилось все. Этот человек отстоял не только жизнь – он отстоял и смерть.
Вот почему тоталитаризм не бывает стопроцентным, а существование фашистов не ведет человеческую ситуацию к фашизму. Есть резерв духовных свойств человека, который, даже не помышляя о том, что делает, – защищает и жизнь, и смерть. Отстаивает их, возвращает в человеческое бытие, в повседневность. И это не вчерашнего дня проблема. Она еще постучится в нашу дверь, заставляя задуматься о судьбе того «метапоколения», о котором я веду речь.
История никогда не была ровной. Каждый день ее и год состоит из обрывов, из гамлетовых безвремений, которые ставят на острие шпаги их перевод в междувременье. А когда выясняется, что не удалось, на месте плотного, насыщенного поля истории вдруг развертывается мертвящий простор отсутствия. Тогда любое может стать «целью», тогда на авансцену выходят люди, способные все превратить в квазицель. Переизбыток «исторического», максимально уплотненный во времени, вдруг обваливается в безвременье – причем такое, которое не в силах перейти в междувременье. Застряли!
Что же остается тогда? Многое. И обыкновенное человеческое бытие – великое обыкновенное. И великие «малые» дела. И еще остается память, которую надо сберечь в себе. У Брэдбери есть новелла: человек высаживается на Марсе и видит мертвые города – останки изощренной, умной, погубившей себя цивилизации. Вдруг он сталкивается с марсианином, чудом оставшимся здесь, и спрашивает – как это с вами приключилось, куда все ушли? А марсианин ему: взгляни, там жизнь! Эти города сияют огнями, они полны людей! Марсианин спускается в долину, где все полно продолжающейся жизнью. В то время как встреченный им землянин не видит ничего, кроме мертвых руин.
Считайте, что я марсианин.
О проекте
О подписке
Другие проекты