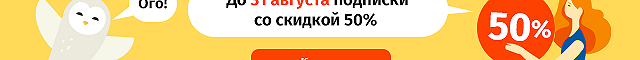
Двое молодых людей – мешковатый, со вздернутыми плечами и с насмешливо-надменным взглядом поверх очков, князь Петр Андреевич Вяземский и сосредоточенно-серьезный, одетый с подчеркнутой тщательностью Николай Иванович Тургенев, сидели в некотором отдалении, не смешиваясь с остальным обществом.
– …Сколько было разговоров об этом лицее, какие надежды возлагали! И что же? Прислали к нам в коллегию оттуда молодых людей. Ни прилежания, ни усердия, почерка приличного и того нет. Да и на службе-то их не видно! Встречает тут на днях Иван Тихонович одного из них – Пушкина, кажется, – в кондитерской и говорит ему так с намеком: «Милостивый государь, что-то я редко вижу вас?» А тот бойко так: – «Этого не может быть». – «То есть как это не может?» – «А очень просто, – сам смеется, – вы не могли меня видеть ни редко, ни часто по той простой причине, что я-то вас вижу в первый раз». Каково? А этот Иван Тихонович его непосредственный начальник по канцелярии.
– В России власть имущие состоят из трех разрядов, – сказал Тургенев. – Одни – хотят и не умеют. Другие – умеют, но не хотят. Третьи – не хотят и не умеют. Но вот таких, которые бы хотели и умели, увы, не встречается.
– …А в Париже, вот пишут газеты, сильный ветер. Сдувает черепицы с крыш и кучеров.
– Как тебе не надоест сюда ходить? – пожал плечами Вяземский. – Слушать разговоры этих печенегов?
– Тебе этого не понять. Женатый человек этого понять не может. Повар здесь хороший.
Рокот гитарных струн, дым, чубуки, шампанское – гусары.
– Сижу у Брессона, народу полно. Наших не вижу. Союзнички одни красуются, да всякая парижская шушера. Вдруг входят наши, четверо армейских. Метрдотель подлетает к ним, изгибаясь – что господа изволят. А господа, видите ли, изволят шампанского – одну бутылку и четыре стакана. Тьфу, вашу… Я, конечно, сейчас же подзываю к себе этого метрдотеля и громко так на всю ресторацию заказываю – четыре бутылки шампанского и один стакан. Армейские смешались, заторопились, вытянули поскорее свою бутылку и деру. А я не тороплюсь. Пообедал как следует, выпил все четыре бутылки, а за десертом выпил еще кофе с приличным количеством ликера во славу русского оружия – знай наших! У немчуры глаза на лоб полезли. И, поверите, когда я выходил – твердой походкой, не покачнувшись – вся эта публика мне аплодировала.
– Да они тебя просто не знали. У тебя внутри, Каверин, наверное, какое-то особое устройство. Вот жрут же люди стекло, шпаги глотают…
– Ты материалист…
Каверин в расстегнутом ментике и белоснежной рубашке сидел в креслах. На коленях у него лежала гитара. Перед ним стоял высокий черный гусар, смотрел мрачно на него в упор и вел высоким голосом романс «Звук унылый фортепьяно».
Каверин, смеясь глазами, вдруг сделал «гром и молнию», – перекосил лицо и открыл рот. Это был его любимый фокус.
– Господа, я предлагаю выпить за Сашку Пушкина! Которого мы все любим и без которого мы соскучились!
– Кто соскучился без Сашки, тот пусть пьет до дна.
– Пойдем к нему, разбудим. Вот славно будет!
– Куда пойдем, куда пойдем? Он же болен.
– Мы его живо вылечим…
– Дурак ты, братец, он уже скоро месяц как лежит. Больной и беспомощный. Весь во власти врачей и любвеобильных своих родителей.
– Они же его умучают.
– Я предлагаю послать ему шампанское. Ящик шампанского. По себе знаю, холодное шампанское способно вылечивать пароксизм любой лихорадки.
– Да брось, охота тебе поить гостей Сергея Львовича! Пушкин головы поднять не может. Я сам разговаривал с доктором Лейтоном, который его лечит, он говорит, что не может поручиться за его жизнь.
– Дурак он этот твой доктор!
– Так выпьем за здоровье нашего Саши Пушкина. Пускай он поскорей освободится от своего эскулапа, а уж мы его на ноги поставим…
Он выпил, потом вынул вдруг саблю из ножен и пустил ее в стену. Клинок вонзился в дерево, трепеща. Каверин засмеялся счастливо.
– Да ты не так делаешь! – путаясь в шпорах, коренастый гусар выбрался из-за стола. – Смотри, – он вытащил саблю. – Господа! К оружию. Эй вы, Прошки, Ваньки, как вас там, вынести все свечи!
Сверкнули обнаженные гусарские сабли, скрестились, на них была моментально водружена огромная сахарная голова. Кто-то обильно облил ее из бутылки ромом. И вот она запылала синим светом, причудливо освещая темную комнату.
Полней стаканы, пейте в лад!
Перед вином благоговенье:
Ему торжественный виват,
Ему – коленопреклоненье!
Герой вином разгорячен,
А смерть отважнее стремится,
Певец поет, как Аполлон,
Умея Бахусу молиться.
Любовник, глядя на стакан,
Измену милой забывает.
И счастлив он, покуда пьян,
Затем, что трезвый он страдает.
Полней стаканы…
– Видеть я не могу эту постную аракчеевскую физиономию. Как посмотрю, на душе так скучно становится. За что нам бог такое наказание послал.
– Не понимаю, как государь не видит всю его подлость.
– Одним миром мазаны.
– Ну это ты брось. Здоровье государя-императора! Ура!
– Ура! В Россию скачет
Кочующий деспот…
– Каверин, это твой ноэль[3]?
– Где нам, дуракам, пить чай со сливками…
– Зачем я рубился с Наполеоном, чтобы таскать рапорты принцу Оранскому? Как только получу деньги, расплачусь и уеду отсюда к чертовой матери.
Сижу в компанье
Никого не вижу,
Только деву рыжу,
И ту ненавижу…
Кто там – шампанского, да холодного. Этот ваш фейерверк – пфу – мираж. Мою болезнь лечит только шампанское. Ибо какова болезнь, таково и лекарство.
– Где нам, дуракам, чай пить, да еще со сливками.
За окном светлело утро.
– Банк, господа! Прошу класть деньги на карты.
– Раевский, ты что? Не веришь?
– Время позднее. Прошу класть деньги на карту, боюсь спутаюсь…
– Нет, так ты не веришь?
– Да уйди ты. Мечи, Раевский, нам на дежурство скоро.
– Милостивый государь, я вас вызываю…
– Завтра…
– Немедленно, сейчас.
– На поле бранном тишина,
Огни между кострами…
– Крестьянин в законе мертв, но жив будет, если того захочет.
– Друзья! Здесь светит нам луна,
Здесь кров небес над нами.
– Захочет ли? Вы думаете, русский человек еще умеет хотеть? Взгляните на эти тупые, покорные лица. Разве вас не поражает их странная немота? В нашей крови, должно быть, есть что-то враждебное всякой мысли, всякому движению вперед. Равнодушное презрение ко всему, что есть долг, справедливость…
– Наполним кубок круговой,
Дружнее руку в руку!
– Чаадаев, как вы можете так говорить? В вас нет ни капли любви к отечеству!
– Любовь к отечеству – прекрасная вещь. Но я знаю нечто, еще более прекрасное.
– Что же может быть прекраснее любви к отечеству?
– Любовь к истине.
– …Запьем вином кровавый бой
И с павшими разлуку.
– Чаадаев, вот ты у нас всё знаешь, – скажи, вот говорят, нет худа без добра, это что же, и карточная игра полезна?
– Очень полезна – она тебя избавит от труда писать завещание и платить пошлины с своего капитала…
– Ну и люблю ж я тебя, Чаадаев… Выпьем…
– Господа, пошли на улицу, квартальных бить. Поймаем и…
– Старо!
– В самом деле, пошли на улицу!..
– Сограждане! Это становится стихийным бедствием! Вчера граф целый час душил меня своими одами посреди улицы!
В тесной комнате, непритязательно обставленной, где много книжных шкафов и мало свободного места, за длинным столом восседают молодые люди в красных колпаках, с серьезными лицами и веселыми глазами.
– Лично против графа я ничего не имею – он вполне приличный, добрый человек и не далее как в прошлый понедельник выручил меня деньгами, но его поэтические труды!
– К оружию, сограждане! Перо и бумагу мне! Я должен сейчас же написать эпиграмму!
– Как?! Ты до сих пор этого не сделал? – председательствующий воздел руки в негодовании. – Братья! А мы-то считали Батюшкова поэтом. Да знаешь ли ты, несчастный, что эпиграмма на графа Хвостова – это пропуск в литературу, вступительный пай… Братья! Я в горести и смятении! Может быть, среди нас есть еще кто-нибудь, кто не почтил графа своим вдохновением? Покайтесь, братия, и поднимите руки, кто грешен. Ты, Асмодей? Ты, Кассандра? Ивиков журавль? Сверчок? Где Сверчок – вестник полуночи?
– Он пропустил уже три заседания. Он клубится…
– Занести в протокол. Ты, Эолова Арфа? Ты, вот?
Только двое подняли руки?
– Позор! Волею, данной мне этим собранием, накладываю на вас епитимию – прочесть от начала до конца «Россияду» Хераскова.
– Умоляю! Не сейчас и не здесь. Я сегодня выспался!
– Пусть читают выборочно.
– Но какой же безумец знает это изделие наизусть?
– Светлана, дай им книгу!
– Не могу – стол упадет.
– Подопри Шишковым. Вон он в каком переплете.
Наконец, книга извлечена, и один из провинившихся, ткнув наугад пальцем, загнусил:
– Уже блюстители Казанские измены,
Восходят высоко Свияжски горды стены!
Сумбеке город сей был тучей громовой!..
– Довольно! – взмолился один из присутствующих. – Или он сумасшедший, или я сошел с ума? Как можно такое наяву написать!
Полноватый, с добродушным лицом человек, сладко дремлющий в кресле, только всхрапнул в ответ.
– Эй, Эолова Арфа, проснись! Гусь на столе!
Все дружно заскандировали:
– Где гусь? – Он там? – Где там? – Не знаю!
– Братья! – старался перекричать шум председатель. – Не дайте голосу желудка затмить в вас другие чувства. Сегодня нам выпала большая честь – мы принимаем в наше содружество человека, о славных добродетелях которого говорить в столь поздний час излишне. Николай Тургенев! Готов ли ты?
– Готов.
– Готов ли ты отказаться от имени своего и клянешься ли потерпеть всякое страдание за честь содружества и литературы русской?
– Клянусь.
– Клянешься ли быть пугалом противникам нашим и вместе с остальными братьями бороться с ними?
– Клянусь.
– Надеть на него красный колпак! Отныне ты нарекаешься Варвик. Новообращенный гусь! Мы слушаем тебя! Говори!
– Превосходные Арзамасцы, уважаемые гуси! Боюсь сделать свое вступление длиннее самой речи. В далеких странствиях за пределами земли родной услышал я впервые о славном Арзамасе, и сердце мое возликовало. Ибо когда есть литературные халдеи и политические хамы, все честные люди должны объединиться для борьбы с ними. Враги утверждают, что такое объединение внесет раскол в литературу. Друзья надеются, что арзамасские гуси освободят русскую словесность от варварства. Кто знает! Ведь спасли же гуси однажды и Древний Рим! Превосходные Арзамасцы! Мудрые законы ваши повелевают каждому вновь вступающему прочесть надгробное слово кому-либо из ныне живущих и ныне смердящих литературных варваров. Кого избрать? Выбор большой – соблазна много…
Возвращались под утро, когда пламя свечей уже начинало меркнуть в сером свете, льющемся из окон.
Светало, молодой барин, усталый, шел через комнаты, анфиладой, на ходу сбрасывая на руки слуги пелерину, шляпу, перчатки. Он нанимает в Петербурге отдельный дом, он богат, поскольку богаты его родители.
В одной из комнат смех, шумный разговор, ткнул двери в другую, попятился – там спят, только что не вповалку. Кто-то сонный, приподняв голову, улыбнулся хозяину.
– Кто это? – шепотом спросил молодой барин слугу, прикрывая дверь.
– Не ведаю-с. Приехал в третьем часу, с актрисой. Назвался вашим другом.
– А, знаю, помню. Вспомнил, – поспешно сказал молодой барин. – Прекрасный человек. Что, Вяземский не заезжал? Пушкин?
– Здравствуйте, душа моя! – кто-то, обняв, повис на груди. – А мы тут тебя заждались! Не знаешь, где пропал хозяин? – И прежде чем молодой барин успел что-либо ответить, гость подмигнул:
– Опять, наверное, с девчонками, скотина! – рассмеялся и прошел дальше.
– Так что же Пушкин?
– Здесь.
– Давно? – огорчился хозяин.
Слуга взглянул укоризненно, что означало: «Порядком-с».
– Один? – удивился хозяин.
Слуга вздохнул еще укоризненнее, что означало: «Как можно-с».
– Не надо. Не буди. Утром.
Из маленькой гостиной вместе с клубами дыма вырвался сноп света от жарко пылавших канделябров. Оглянулись люди, сосредоточенно сидящие за столиком, покрытым зеленым сукном.
– Сюда! К нам!
Улыбками, знаками они звали присоединиться, но молодой барин, пожелав счастливой игры, тоже с улыбкой молча развел руками, что означало – «нет сил».
Повернувшись к слуге, вдруг сделался строг:
– Это все мои друзья, прекрасные, лучшие люди! – сообщил он. – Так чтобы – ни-ни! – и помолчал секунду, со вздохом решительно заключил: – Спать.
– …Что скажешь о вчерашнем дебютанте? Как он тебе?
– Этот долговязый крикун? Что ж! Ничего молодец! Ему бы в Преображенский, в первый батальон, да еще правофланговым, там бы он был уместнее. Или в тамбур-мажоры!
– Уж не говори – я вчера в этой трагедии от души посмеялся. Все думал, кто кого перекричит – публика дебютанта или дебютант публику.
Театр. Многоярусная храмина, мягко озаренная оплывающими свечами массивной люстры и легкими трехсвечными жирандолями, огромное и хитрое строение, сохранившее во всей чистоте тип европейского театра предшествующих столетий. Тяжелый занавес с изображением греческого храма еще опущен и лишь волнующе колышется, обещая предстоящее зрелище. Но театральное действо уже началось – действующие лица на своих местах, роли давно распределены. Глухо плещет раек под нависшими сводами огромного плафона. Золотом орденов и эполет блистают первые ряды кресел, застывшие в сановной невозмутимости. Тройной пояс лож сияет улыбками дам и драгоценностями. Молодые люди – в военных мундирах и во фраках – гуляют по всем десяти рядам кресел, толкутся у лож бельэтажа, громко разговаривают со знакомыми и незнакомыми. Как всегда особенно оживленно на «левом фланге» кресел. Здесь прописные театралы.
– Откуда ты? От Семеновой, от Колосовой, от Истоминой?
– Сегодня она танцует – похлопаем ей – вызовем ее!
– Она так мила! У нее такие глаза! Такие ножки! Такой талант!
– Говорят, Катенин подсадил вчера однополчан в театр, чтоб поддержать свою протеже.
– Известно, преображенцы вчера постарались, не пожалели ни ладоней, ни глоток. Я думаю, все охрипли, сегодня на учении и командовать не могут.
… – Хочешь последнюю байку?
Какой тут правды ждать
В святилище закона?
Закон прибит к столбу,
А на столбе корона!
– Пушкин?
– Нет, он еще из деревни не вернулся.
– А говорят, видели его в театре. У оркестра, впереди, как всегда, вертится.
– Да нет его там!
– Ну, значит, дежурит за кулисами…
Все знакомые. Поблескивающий очками, язвительно улыбающийся князь Вяземский. Молодой красавец-генерал Михаил Орлов.
Мельтешащийся Александр Иванович Тургенев, захлебываясь, рассказывает очередную новость похохатывающему Жуковскому. Нелепый Кюхельбекер, перегнувшийся в другой ряд, отчаянно жестикулирует и громко вмешивается в разговор. Обезображенный оспой, с вытекшим глазом, чопорный собеседник Гомера поэт Гнедич, Пущин, Дельвиг… А в седьмом ряду с краю, как застывшая глыба, о которую разбиваются все театральные страсти, монументально дремлет Крылов.
– Освободили Европу, Россию возвеличили! С нами бог! А у князя Меттерниха на посылках бегаем.
– Посмотрите на Крылова: вот кто чужеземного ига не чувствует! Когда его спросили однажды, какое по-русски самое нежное слово, он ответил не задумавшись: «Кормилец мой».
– Какая рожа, Господи! А умен, ещё бы! Может быть, умнее нас всех…
А за кулисами, при тусклом освещении маслянных ламп, свой спектакль, повторяющийся из вечера в вечер.
– Ты, миленькая, дулища, – беснуется неуклюжий плешивый толстяк с непомерным животом и голосом кастрата. Это всем известный князь Шаховской – знаменитый знаток сцены, поэт, драматург, режиссер и первый театральный педагог столицы… – Уха у тебя нет, в плачки тебе идти надо было… – князь шепелявит, не выговаривает буквы «р» и со многими другими буквами – также не в ладу.
Молоденькие актрисы, не слушая князя, переглядывались с офицерами, толпившимися в проходах. Те в нетерпении переминались, в основном, поджидая кордебалет.
– Приехали, – пронеслось неизвестно откуда взявшееся известие. – Балет приехал!..
Но вместо полувоздушных сильфид появился худой, как остов, с преогромным носом старикашка – Дидло.
– Что здесь творится? Вон! Немедленно все вон!
Часть офицеров благоразумно ретировалась. Наиболее смелые прижались к стенке… Наконец, появился кордебалет. Юные чаровницы сбрасывали на руки прислужниц верхние одежды и оставались в одних газовых туниках.
– Позвольте представить вам моего товарища, он очарован вашим…
– После спектакля лошади будут ждать у входа…
– Чему приписать вашу холодность?
Нетерпеливое гудение зала достигло предела, и в этот момент в губернаторской ложе показался генерал-губернатор Петербурга граф Милорадович, немолодой, бравый, с широченной грудью, усыпанной алмазной россыпью отечественных и иностранных орденов. Через золотой лорнет окинул взглядом зал, прельстительно улыбнулся знакомым дамам и легко опустился в придвинутое адъютантом кресло.
О проекте
О подписке
