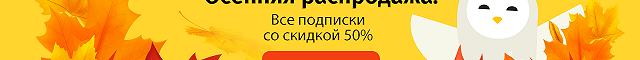
Глава I
Концепты и концептуализация “мягкой силы”
Развитие современных мирополитических процессов чрезвычайно актуализирует ресурсные возможности применения “мягкой силы” в глобальной политике. На совещании с российскими послами и постоянными представителями при международных организациях в июле 2012 г. президент России В. В. Путин особо отметил, что «традиционные, привычные методы международной работы освоены нашей дипломатией достаточно хорошо, если не в совершенстве, но по части использования новых технологий, например так называемой “мягкой силы”, безусловно, есть над чем подумать».
Государственный переворот на Украине, интернационализация украинского кризиса, санкционное давление Запада на Россию и ее контрсанкции, кризисное развитие событий на Ближнем Востоке в беспрецедентной, пожалуй, степени выявили значение проблемы концептуальной соотнесенности и практического использования инструментария “мягкой” и “жесткой” силы в мировой политике, ставя экспертно-политологическое сообщество и дипломатию нашей страны перед необходимостью уточнения ее сущностного содержания и потенциальных перспектив.
Эта проблемная тема – в обновленно-укрупненном формате, с учетом нынешних геополитических реальностей, резкого обострения международной обстановки – стала одной из центральных в выступлении В. Путина на аналогичном совещании в МИД России 30 июня 2016 г. Президент подчеркнул, что многообразие и сложность международных проблем, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Россия, “требуют постоянного совершенствования нашего дипломатического инструментария в политической, экономической, гуманитарной и информационной сферах”. И далее: “Наши дипломаты, конечно, понимают, насколько важна сегодня борьба за влияние на общественное настроение, на общественное мнение. В последние годы мы много занимаемся этими вопросами, однако в условиях настоящей информационной атаки, развязанной некоторыми нашими так называемыми партнерами против нашей страны, встает задача еще более нарастить усилия на данном направлении”[1].
“Мягкая сила” существенно расширяет привычный коридор внешнеполитических возможностей государств. Особое значение она приобретает в новых – санкционных – условиях перехода Запада от конкурентно-партнерского сотрудничества с Россией к конфликтному соперничеству на мировой арене. Так, в сценарии самых масштабных за последнее десятилетие маневров НАТО “Соединение трезубца – 2015” подчеркивалось, что они помогут альянсу отточить умение использовать “мягкую силу” и публичную дипломатию, а также действовать в контролируемой и враждебной медиасреде. По словам заместителя генсека НАТО А. Вершбоу, учения призваны продемонстрировать “способность НАТО отвечать на все виды угроз – от обычных боевых действий до гибридной войны и вызовов пропаганды”[2].
Сегодня перед нашей страной со всей остротой стоит задача найти оптимальные формы применения “мягкой силы”, учитывающие как международный опыт, так и национальную специфику с опорой на зарекомендовавшие себя информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие методы и технологии. Это тем более важно, что, по словам С. В. Лаврова, выступавшего в рамках “Правительственного часа” в Совете Федерации 18 декабря 2013 г., «мы начинаем осваивать инструменты “мягкой силы”, в том числе на европейском направлении, гораздо позже, чем собственно изобретатели этих инструментов – наши западные партнеры»[3]. А К. И. Косачев, который вплотную занимался этой проблематикой в качестве руководителя Россотрудничества, оценочно конкретизируя задействованный ресурс отечественной “мягкой силы”, с сожалением констатировал: “КПД наших усилий невелик и больше тратится на сохранение того, что есть, без количественного прироста и качественной отдачи”[4]. Особенно наглядно это проявилось в связи с кризисным развитием ситуации на Украине. Характеризуя масштабы использования там “мягкой силы” Россией и Западом и отмечая, что по линии Россотрудничества делалось всё зависящее “в пределах имеющихся ресурсов и компетенций”, он подчеркнул: “Однако это несравнимо с тем, что столь долго и планомерно вкладывали в Украину Евросоюз и США, обращаясь с важными – в том числе идеологическими – посылами непосредственно к обществу, к украинским СМИ и НПО, к экспертным кругам, к молодежи в существенно большей степени, чем к властям или бизнес-структурам. Это гигантские ресурсы, затраченные на массированный стратегический сев, который дал свои мощные всходы в виде того же евромайдана”[5].
Главный редактор журнала “Россия в глобальной политике”, научный директор Международного дискуссионного клуба “Валдай” Ф. Лукьянов рассматривает ситуацию с “мягкой силой” в нашей стране в контексте конкуренции идей и ценностей, которая всё чаще напоминает ему “мягкую” гонку вооружений. Если речь заходит о слабостях российского внешнеполитического арсенала, констатирует он, все комментаторы – и доброжелательные, и не очень – сходятся в одном: дефицит “мягкой силы”. “Проблема не раз признавалась и официально, правда, систематической работы по ее решению не получалось – ни тогда, когда нанимали специальные иностранные компании, ни тогда, когда пытались активизировать работу государственных учреждений”[6].
При этом проблемное поле “мягкой силы” “вспахано” российской наукой и экспертным сообществом весьма основательно. В нашей стране ей посвящено большое количество публикаций, как научных, так и публицистических, защищены диссертации разного исследовательского уровня и достоинства, но все они, как правило, базируются на концептуальных построениях американского ученого и политика Дж. Ная[7], изложенные им в основном в статьях и особенно в книге 2004 г. «“Мягкая сила”. Как добиться успеха в мировой политике», которая стала политическим бестселлером и классикой внешнеполитических рекомендаций.
Дж. Най относится к тем концептуалистам-первопроходцам, чьи идеи, мысли, взгляды, оформленные в определенную теоретическую систему, оказались востребованными в большой международной политике. О широком резонансе, который они вызвали в научно-экспертных и политических кругах США, свидетельствует тот факт, что вскоре после публикации этой книги Най вошел в рейтинговую десятку наиболее влиятельных в стране интеллектуалов в области международных отношений[8].
С тех пор взгляды Дж. Ная претерпели определенную эволюцию; изменения, дополнения и новые акценты нашли отражение в его книге 2011 г. (в русском переводе “Будущее власти. Как стратегия умной силы меняет XXI век” вышла в 2014 г.).
В работе, которую вы держите в руках, предпринимается попытка проследить динамику этих изменений в рамках сопоставительного анализа идей в указанных книгах и других публикациях Дж. Ная, что позволит обозначить некоторые особенности проблемного поля “мягкой силы” в новой геополитической реальности, учет которых может быть полезен как в повседневной внешнеполитической практике, так и в разработке новых положений международной стратегии нашей страны.
Исходная проблема в осмыслении “мягкой силы”, ее ресурсов и потенциала – адекватность, точность перевода, что чрезвычайно важно в теоретическом и практико-политическом плане. Существующие терминологические разночтения сказываются, естественно, на понятийном аппарате и на понимании содержательного наполнения: особенности перевода расширяют или сужают, дополняют или специфицируют те или иные составляющие “мягкой силы”, создавая предпосылки для разнообразия ее интерпретационных версий. По-прежнему актуален призыв Декарта: “Определяйте значения слов, и вы избавите мир от половины заблуждений”.
В понятии soft power оба слова – по отдельности – несут самостоятельную нагрузку. Те, кто переводят power как “власть”, неизбежно сталкиваются с противоречием, то есть вместо “мягкой силы” возникает некая “мягкая власть”, что “рождает ассоциацию с “рыхлой”, “слабой”, “податливой” властью, что не соответствует смыслу и сути этой власти. Поэтому soft переводится с иным акцентом – словом “гибкая” и появляется новое понятие “гибкая власть”[9]. Здесь явно ощущается опасение, будто “мягкая сила” есть слабая сила. Не этим ли объясняется, в частности, замечание других политологов о “не совсем корректном переводе русскоязычного издания”[10].
Гибкость власти – это исходный импульс любой грамотной политики – как внутренней, так и внешней. Так что содержательно-терминологически, с точки зрения перевода, эта новация весьма относительна. Еще в XVIII веке французский философ-моралист Люк де Клапье де Вовенарг сформулировал весьма точную политическую максиму: “предел хитроумия – умение управлять, не применяя силы”. К тому же акцент на слово “власть” вызывает и другие ассоциации, связанные, например, с русским выражением “власть употребить”, далеким от сути “мягкой силы”. Власть – всегда насилие. Бывает, конечно, и ограниченное, в мягких формах, но не они определяют его стержневой смысл. Русская языковая специфика такова, что слово “власть” воспринимается в контексте жестко выраженных императивных коннотаций, слабо согласующихся с “мягкой силой”. Обратимся к первоисточнику. Реагируя на различные интерпретационные версии базового смысла, исходно заложенного им в понятие power, Най вновь предупреждает – уже в книге 2011 г.: ошибочно думать о силе “как “силе над”, а не “силе с” другими[11]. Нельзя абстрагироваться от уточнения, к которому прибегает Най в примечаниях к той же книге: сила предполагает причинную обусловленность и подобна слову “заставить”. Поэтому отнюдь не единичны в нашей стране трактовки смысловых значений “мягкой силы”, которые характеризуют ее как гибкость, пластичность, ненавязчивость, эфемерность, хрупкость, соблазнительность и даже женственность[12].
Иногда русский перевод “мягкой силы” обосновывают социально-психологическими особенностями народа той или иной страны, характером восприятия им окружающего мира. Так, считается, например, что американскому пониманию ближе смысл “разумная сила”, то есть стратегия внешнеполитического влияния, ориентированная на применение силы “с умом”.
Китайской политико-лингвистической интерпретации этого понятия больше подходит перевод “мудрая сила”, отражающий сдержанность китайской дипломатии, конфуцианские корни стратегической культуры КНР. В малых и средних европейских странах “мягкая сила” прямо отождествляется с “умной силой” как синоним эффективности, оптимального соотношения ограниченных ресурсов внешнеполитического влияния и дипломатических достижений. Для Европейского союза, с учетом его структурно-интеграционных особенностей и внутренних проблем, более адекватным выглядит вариант “собранная, скоординированная сила”[13].
Таким образом, в отношении “мягкой силы” исходно создалась очень непростая понятийно-терминологическая ситуация, допускающая не совсем совпадающие переводческие версии. И здесь, разумеется, нет каких-либо волюнтарных языковых передержек. Налицо неоднозначность смыслового содержания обоих компонентов понятия “мягкая сила” в самом английском оригинале, создающая предпосылки для использования в русском переводе слов, которые являются не эквивалентами соответствующих английских лексем, а вербальными инструментами авторских интерпретаций идей Дж. Ная. Эти интерпретации, с одной стороны, привносят не предусмотренные в оригинальной концепции смысловые компоненты, а с другой – приводят к утрате тех смысловых связей, которые имеет английское слово power, а в значительной степени также и русское слово “сила”[14].
Но в любом случае адекватность перевода концептуальному первоисточнику – конечно же, вопрос для специализированных обсуждений, в ходе которых можно было бы свести к минимуму терминологические, а значит, и понятийные разночтения.
Смыслообразующие особенности понятий в трактовке такого тонкого концептуалиста, как Дж. Най, имеют важное практико-политическое значение. В доктринальных внешнеполитических документах, где нюансы никогда не бывают второстепенными, вряд ли корректно использовать слово “власть”, которая все-таки ассоциируется преимущественно с “жесткой силой”. Не потому ли, несмотря на разнообразные и по-своему аргументированные варианты перевода, в Концепцию внешней политики России 2013 г. вошло именно понятие “мягкая сила”?
Но дело не только в терминологии. Для разночтения или акцентированного выделения той или иной стороны “мягкой силы” есть изначальные объективные основания. Дж. Най разрабатывал ее не с нуля, ему удалось привести к единому знаменателю комплекс различных идей, мыслей, внешнеполитических положений. При этом он высоко отзывается о трудах американских политологов, аналитиков, чьи концептуальные соображения он использовал в своей работе. Выражая благодарность своему другу Роберту О. Кеохейну, очистившему металлической щеткой хорошей критики шлак его первых черновых записей каждой главы, Най писал, что они оба были соавторами такого количества книг и статей, что он уже и не знает, кому больше принадлежат его мысли, “действительно мне или ему”[15].
То, что Най опирался на концептуальный опыт своих коллег, естественным образом наложилось на обобщенное понимание “мягкой силы” российскими учеными и экспертами. Так, определенная часть философского сообщества, непосредственно связанная с профильным осмыслением “мягкой силы”, рассматривает ее в рамках дискурсов, конкурирующих между собой за форматирование общественного сознания и научного знания, за утверждение в когнитивной сфере в качестве главной, основополагающей, той или иной модели интерпретации. Сторонники осмысления “мягкой силы” с такого философско-методологического угла, констатируя наличие множества трактовок категории “концепт”, фиксируют неизбежную смысловую отстройку концепта от понятия и идеи. В практическом плане это означает естественное появление многих авторов-интерпретаторов, которые наделяют концепт новыми смыслами[16]. Что, собственно, и произошло с понятием “мягкая сила” в трактовке Дж. Ная.
Но интерпретационные “обогащения”, нюансы и оттенки в толковании “мягкой силы” при переносе их непосредственно в практическую плоскость внешней политики и международных отношений, где оценочные параметры играют первостепенную роль, нередко чреваты выводами, не учитывающими в должной мере глубину и сложность современных мирополитических процессов, особенности сдержек и противовесов в мировой политике, наконец, гигантские геополитические сдвиги XXI века. Так, некоторые исследователи ошибочно полагают, что в эпоху глобализации и усиления геополитической конкуренции инструментарий “мягкой” силы стал рассматриваться политиками и теоретиками в качестве важного ресурса внешнеполитической мощи только стран, “претендующих на статус мирового центра или полюса власти”[17]. Но это противоречит очень важному тезису самого Ная, который настаивает на том, что страны могут обладать политической привлекательностью, которая больше, чем их военный или экономический вес, так как их национальные интересы подразумевают наличие привлекательных целей, например таких, как экономическая помощь или участие в мирном процессе. В качестве примера он приводит Финляндию, которая в большей степени подпитывалась “мягкой силой”, и Норвегию, за последние десятилетия участвовавшую в проведении мирных переговоров на Филиппинах, на Балканах, в Колумбии, Гватемале и на Ближнем Востоке, а также Польшу, правительство которой решило послать войска в послевоенный Ирак не только для того, чтобы добиться благосклонности США, но и создать более позитивный образ Польши в мире[18]. И позднее, возвращаясь к этой теме, Най вновь подчеркивает: «Вполне вероятно, что некий изощренный противник (такой, как малая страна, имеющая ресурсы для ведения кибервойны) решит, что может шантажировать большие государства. Существует также перспектива нанесения киберударов “независимыми” или “свободными гонщиками”, поддерживаемыми государством»[19].
Более того, некоторые российские политологи вообще исходят из того, что «для небольших государств “мягкая сила” – это синоним эффективности соотношения ограниченных ресурсов влияния и дипломатического успеха, а также инновационности, экологичности и т. д.»[20]. Взвешенно, с учетом множества значимых факторов подходит к этому вопросу М. М. Лебедева. Подобно тому, считает она, как “мягкая сила” представляет собой деятельность, направленную на то, чтобы сделать нечто привлекательным для другого (навязывание и обман противоречат самой идее “мягкой силы”), ресурс выступает лишь в качестве потенциала влияния. Поэтому наличие ресурсов еще не обеспечивает политического влияния. “Ресурсом надо еще умело воспользоваться, чтобы из потенциала влияния он превратился в ресурс влияния. Хотя само наличие ресурсов, безусловно, дает преимущества перед другими на мировой арене”[21].
Экстраполяция другого взгляда на роль “мягкой силы” в сферу мировой политики приводит к выводу, с которым никак нельзя согласиться, – что среди инструментов влияния не стоит рассматривать “внешнюю политику западных стран, так как она заведомо (?! – М. Н.) будет восприниматься критически со стороны как всего (?! – М. Н.) мирового сообщества, так и ближайших соседей, и степень влияния которой также будет, скорее всего, равна нулю”[22].
Упрекая отдельных авторов в попытках «искусственно “натянуть” различные известные самостоятельные концепции (власти, психологии влияния, коммуникации, социального взаимодействия, территориального маркетинга) на концепт “мягкой силы”, которые на самом деле никакого прямого отношения к нему не имеют»[23], эти исследователи сами сдвигаются к другой концептуально-методологической крайности, сводя “мягкую силу” всего лишь к “совокупности гуманитарных ресурсов страны”[24].
Это в корне неверная, далекая от первоисточника констатация. Дж. Най неоднократно предостерегал против зауженного представления о “мягкой силе” в мировой политике. Он подчеркивал, что существует множество основных ресурсов “мягкой силы”, к которым относятся культура, ценности, легитимная политика, позитивная внутренняя модель, успешная экономика и профессиональная военная сила. Более того, это и такие ресурсы, как службы национальной безопасности, информационные агентства, дипломатическая служба и многое другое[25]. По Наю, “мягкая сила” включает, помимо культурно-гуманитарной составляющей, и политику, политические ценности и институты, и др. (см. его публикации). Культура, ценности и политика – не единственные источники “мягкой силы”, настаивает Най, отмечая, что экономические ресурсы тоже могут стать источником поведения как “мягкой”, так и “твердой” силы и подчас “в ситуациях реального мира трудно отличить, какая часть экономических отношений состоит из твердой силы, а какая – из мягкой”[26].
В отмеченном выше подходе видится и другая методологическая нестыковка. С одной стороны, утверждается, что “мягкая сила” потому и является “мягкой”, что ее не надо применять и использовать: “Если ее применять, то это уже будет пропаганда и агитация”[27]. А с другой – при формулировании завершающего вывода подчеркивается: «Реализация (то есть осуществление, использование? – М. Н.) потенциала “мягкой силы” – это процесс трансляции гуманитарных ресурсов страны…»[28]
О проекте
О подписке
